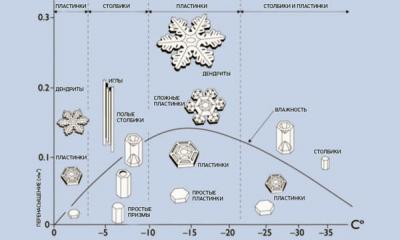ЛЕОНИДОВ Виктор Владимирович (р. 1959) (Москва)
Литературовед. Кандидат исторических наук, заведующий архивом-библиотекой Российского фонда культуры. Автор-составитель книг: В. Смоленский «Жизнь ушла, а лира все звучит» (М., 1994); Н. Туроверов «Стихи» (М., 1995); Н. Туроверов «Двадцатый год - прощай, Россия!» (М., 1999); Р. Блох «Здесь шумят чужие города» (М., 1996); И. Савин «Мой белый витязь...» (М., 1998). Публиковался в «Крымском альбоме» (вып. 1997, 1998).
В историю Галина Николаевна Кузнецова уже вошла хотя бы потому, что на ее глазах создавался роман «Жизнь Арсеньева» - одна из лучших книг, когда-либо написанных на русском языке. Более того, Бунин все время проговаривал с ней будущие главы и диктовал новые страницы. На юге Франции, в Грассе, на вилле «Бельведер» она прожила рядом с первым русским лауреатом Нобелевской премии и его женой Верой Николаевной почти пятнадцать лет. Союз этот до сих пор служит темой бесчисленных пересудов и сплетен, а недавно о нем вспомнили вновь, благодаря успеху фильма «Дневник его жены», съемки которого, к слову, проходили на Южном берегу Крыма. Все было действительно странно - женщина, которую любил Бунин, жила рядом с ним и его супругой.
Она познакомилась с Буниным летом 1926-го. Любовь, если вспомнить слова Булгакова, поразила ее сразу, как финский нож. Муж Галины Николаевны, парижский таксист, в прошлом, естественно, боевой офицер, даже хотел убить писателя, но, слава Богу, опомнился... Уже потом, на исходе жизни, Галина Кузнецова оставила воспоминания о Бунине и жизни в Провансе - «Грасский дневник», вошедшие в золотой фонд русской мемуаристики. Впрочем, что она прекрасно владела пером, было известно еще задолго до того, как Галина Николаевна приступила к работе над своими записками.
Она родилась в Киеве 27 ноября (10 декабря) 1900 года. Впоследствии детство очень точно описала в романе «Пролог», произведшем достаточно сильное впечатление на русский Париж в 1933 году. Окончив Киевскую женскую гимназию, восемнадцати лет вышла замуж за офицера Белой армии, с которым навсегда покинула Россию. Сначала - Константинополь, затем - Прага. В столице Чехословакии, будучи студенткой Литературного института, в 1922-м опубликовала первые стихи в пражском журнале «Студенческие годы». Да, она писала стихи, и стихи ее признавали самые суровые критики русского зарубежья. Лишний раз поэтический талант Галины Николаевны подтвердил сборник «Оливковый сад», увидевший свет в 1937 году в столице Франции. А через год она также безоговорочно была признана настоящим мастером перевода. Здесь же, в Париже, в издательстве «Русские записки» появилась еще одна ее работа - роман Франсуа Мориака «Волчица» с предисловием Бунина.
Ко всему этому, Галина Николаевна, по свидетельствам современников, была очень хороша собой. Да и женщиной слыла неординарной и способной на самые неожиданные поступки. Что и доказал ее разрыв с Буниным, когда Кузнецова увлеклась оперной и эстрадной певицей Маргаритой Степун, сестрой известного философа Федора Степуна. В его семье они прожили с Маргаритой несколько лет после окончательного отъезда из Грасса в 1942-м.

А затем была Америка. Она работала в издательском отделе ООН, публиковалась в старейшей эмигрантской газете «Новое русское слово». В Вашингтоне в 1967-м издала «Грасский дневник». К этому времени писательница жила в Германии, в Мюнхене. Там, в столице Баварии, 8 февраля 1976 года закончилась жизнь этой удивительной женщины.
В прозе Галина Кузнецова, хотела она того или нет, шла по пути своего великого наставника. И недаром, к примеру, в рецензии на ее сборник рассказов «Утро», увидевший свет в парижском издательстве «Современные записки», литератор Николай Андреев назвал его «трогательным подражанием бунинским описаниям». Здесь, наверное, стоит с ним не согласиться. Крымский исход, трагедия последних дней Гражданской войны были для Галины Николаевны нечто большим, чем простое подражание, хотя бы и трогательное.
Но пусть лучше свои оценки расставят читатели «Крымского альбома», которым и предлагаем рассказ Галины Кузнецовой «Бахчисарай» из книги «Утро» (Париж, 1930), публикуемый в России и Крыму впервые.
Виктор ЛЕОНИДОВ.
Сии надгробные столбы,
Казалось мне, завет судьбы
Гласили внятною молвою...
Пушкин. Бахчисарайский фонтан
Поезд из Симферополя добрался наконец до Бахчисарая, постоял и ушел. Офицер в серой заломленной назад папахе, с винтовкой на ремне, и молодая женщина, одетая по-зимнему, оставив солдата с вещами на станции, еле освещенной, грязной, переполненной чего-то ждавшими людьми в шинелях и телами спавших, вышли из здания вокзала и остановились в нерешительности. Над полями опускалась тьма осенней ночи. В нее уходила грязная дорога. Вокруг не было ни души. Офицер посмотрел на часы.
Десятый час, - сказал он. - И неизвестно, где он живет. А вдруг это на противоположном конце города?
Она, напрягая зрение, смотрела в темноту.
А до города далеко?
Думаю, версты две-три. Не знаю, наверное. Во всяком случае ты устанешь.
Она стала убеждать его.
Ну, пройдем немного А вдруг это не так далеко. Я совсем хорошо себя чувствую. Нам, ведь, все равно до утра некуда деваться, кроме вокзала...
Но ему, видимо, и самому хотелось идти. Они пошли по дороге, и через несколько минут станционные постройки позади них потонули во мраке, а еще через четверть часа только слабое зарево на небе указывало то место, где находилась станция. Дойдя до перекрестка, они остановились и стали совещаться.
Пойдем прямо, - говорила она, - мне кажется, что это должно быть там...
Он колебался.
А вдруг ошибемся и заблудимся в поле?
Но все-таки пошли прямо. Быстрая ходьба согрела и оживила их. Обоим стало казаться, что город должен быть где-то тут, совсем близко, за этой тьмой. То же, что оба не знали ни города, ни дороги, придавало их ночному путешествию несколько жуткую прелесть. Хотя темнота была непроницаема, чувствовалось, что справа от дороги должна быть какая-то лощина, оттуда веяло сырым дуновением, запахом листьев и коры. Им казалось, что они различают даже силуэты деревьев. Внезапно впереди раздался какой-то смутный шум, вырос, обратился в стук копыт и колес, и из темноты вынесся на дорогу извозничий экипаж. Офицер громко крикнул навстречу ему:
Это дорога на Бахчисарай?
Но экипаж уже промчался мимо.
Все прямо, - донеслось из темноты.
Пойдем, спросим, - сказал офицер.
Они сошли с дороги и подошли к строенью. Вокруг него была деревянная галерея на столбах. Две ступеньки вели к дощатой двери. Изнутри не было слышно ни звука.
Офицер постучал. Никто не отозвался. Он постучал сильнее. Дом молчал. Он толкнул дверь, она открылась бесшумно. Они увидели длинную, низкую комнату, под потолком которой стояли волны сизого дыма. На лавках вдоль стен спали какие-то люди в халатах. Один сидел у потухшего мангала, спиной к двери, уронив голову на грудь. На стене коптила маленькая жестяная лампочка.
Оба одновременно почувствовали желанье отступить. Но сидевший у мангала поднял голову и повернул к ним худое, чернобородое лицо. Офицер приложил руку к козырьку фуражки:
Не можете ли вы помочь нам? Мы ищем знакомого, но не знаем города. Вот его адрес...
Он достал из-за обшлага шинели сложенную бумажку, развернул ее и громко прочел адрес. Человек в халате не шевельнулся Лицо его ничего не выражало, только глаза устремились на женщину.
Все прямо. За ханский дворец. Там спросить, - неожиданно произнес он сиплым голосом.
Офицер поблагодарил, и оба поспешно вышли.
Когда они опять выбрались на дорогу, женщина обернулась и посмотрела назад. Темные строенья позади казались просто грудой развалин. Только тлело недобрым светом окно того, в котором они были...
Дальнейшие блужданья по уже спавшему, тускло освещенному городу, в поисках уединенного и мало известного квартала, который им был нужен, показались им бесконечно долгими и утомительными. Особенно устала женщина. Перед ее глазами плыли запертые дома, фонари, улицы, вывески, каменная ограда над какой-то маленькой сердитой речонкой, шумевшей где-то во мраке... У какого-то казенного здания, мертвенно и резко освещенного электрическими фонарями, молодой хорунжий с винтовкой долго объяснял им что-то, указывая рукой в темноту. Она смотрела на его плечи и дивилась тому, что на них были погоны, - ей казалось, что с тех пор, как они вышли на незнакомой, ночной станции и углубились в пустые поля, прошло бесконечно много времени, и то, что здесь, в этом ночном городишке, была все еще их власть, возбуждало почти недоуменье. Простившись с хорунжим, они опять пошли дальше, и опять были улицы, дома, шум воды, высокие, почти оголенные деревья, и за ними, за мостом, виденье белых фантастических ворот, ярко освещенных, казавшихся театральной декорацией среди этой сырой осенней ночи.
Но и после этих ворот они еще долго блуждали по каким-то извилистым, темным переулкам, стучали в запертые калитки, возвращались, опять шли и опять стучали, уже пьяные от усталости, почти потерявшие сознанье того, куда и зачем они идут, поддерживаемые одной мыслью, одним стремленьем дойти туда, где их должны впустить и дать им кров и постель. И когда наконец, на стук в чью-то калитку, открылась форточка в окне одноэтажного дома и чья-то голова высунулась из нее, боязливо озираясь, освещенная сзади дрожащим светом, и спросила испуганным голосом: «Кто тут?» - офицер радостно бросился к спрашивавшему:
Петр Степаныч! Впустите нас! Это мы с женой...
Голова поспешно скрылась, и форточка захлопнулась. Потом стукнула дверь, показался слабый свет, потом послышались шаги и звяканье ключа, не сразу попавшего в скважину, и калитка приотворилась. Полуодетый человек, в наброшенном на плечи пальто, со свечой в руке, отступил, пропуская их во двор.
В низкой, чисто выбеленной комнате, женщина сразу, не раздеваясь, села и бесчувственно прислонилась головой к спинке стула. Глаза ее закрывались, она почти не понимала того, о чем говорили между собой мужчины.
Неужели так плохо? - спрашивал хозяин.
Может быть, еще дня два...
Что же вы собираетесь делать?
Речь не обо мне. Я, конечно, то же, что и все. Но я не могу подвергать жену в ее положенье - вы понимаете, о чем я говорю - ужасам посадки на эти мифические пароходы, которых не может хватить и на половину желающих. Вы предлагали нам обоим... говорили, что ваши лесники могут на первое время спрятать в лесах... Я боюсь не за себя... Пусть она побудет, пока можно будет написать домой. Тогда за ней приедут... Я когда-то оказал вам услугу...
Наступило молчанье. Офицер, не шевелясь, напряженно смотрел на огонь свечи, по которому пробегала длинная волнообразная дрожь. Лицо женщины, бледное, с закрытыми глазами, казалось неживым. Хозяин вдруг снова задвигался, заходил по комнате, стал передвигать какие-то предметы, теребя дрожащими пальцами реденькую бородку.
Так значит так плохо... А мы тут ничего и не знаем... Все пишут, отбили да отбили... Но как же вы сами предполагаете...
Я должен завтра днем присоединиться на станции к своему эшелону, идущему на Севастополь. Я уехал вперед. Полковник дал мне командировку...
Хозяин внезапно оживился.
Значит, у вас все-таки еще есть время? Ну, мы потолкуем обо всем завтра утром, а теперь уже первый час, барыньке, вероятно, нужно лечь. Мы ее положим здесь на перинке, а сами как-нибудь в соседней комнате, на тюфяках...
Офицер подошел к жене, сидевшей все так же неподвижно, осторожно освободил ее плечи от тяжелого пальто, снял с головы темно-серую меховую шапочку. Ее тонкие спутанные волосы мягко зазолотились на огне свечи. Будущее материнство еще не коснулось ни ее лица, ни фигуры...
Когда она на другое утро открыла глаза, первое, что она увидела, было низкое окно, забранное решеткой, и в нем маленький дворик, затененный сбоку чем-то высоким. Она не сразу поняла, что это каменная стена горы, почти отвесно поднимавшейся в небо. В теле ее все еще оставалась истома ночной усталости, ей хотелось лежать бесконечно, не двигаясь, вытянувшись на теплой, мягкой постели, вознаграждая себя за месяцы спанья где попало, в тесноте, в грязи, на деревянных лавках, на мешках, на каменных полах вокзалов...
Дверь скрипнула, и вошел ее муж. Она сразу по его лицу увидала, что произошло нечто важное.
Что такое? - спросила она, сразу приходя в себя и садясь на постели.
Он боится и хочет сам уезжать, - ответил он коротко.
С армией? - спросила она.
Да, он твердит, что его самого могут убить, хотя он и не военный, что ни на кого нельзя полагаться, что все ненадежны... Словом, просит взять его с собой. Но об этом, конечно, не может быть и речи...
Значит...
Надо немедленно одеваться и выходить. Эшелон может прийти раньше. Дурак я, что поверил тогда, в Мелитополе...
Она стала быстро одеваться, не растерявшись, привыкнув за эти годы ко всяким неожиданностям, думая только о том, как бы ободрить и успокоить его.
Не волнуйся, все обойдется отлично, - говорила она, быстро перекидывая с руки на руку пряди густых светлых волос, укладывая их и закалывая шпильками на затылке. - Я ведь и раньше была в этом уверена. Это был твой план, а я считаю, что даже лучше, что случилось так. Мне было бы гораздо страшнее оставаться здесь одной, без тебя, в такое время...
Через полчаса, простившись с совершенно потерявшимся, бормочущим извиненья хозяином, они вышли из дому. Над городом стояла сырая мгла. Кое-где мгла эта прорывалась серыми каменными глыбами голого плоскогорья, высовывавшимися из нее, как подводные острова из молочного моря.
Город был совершенно незнакомый, новый, не тот, по которому они прошли ночью. И только ханский дворец, хотя тоже был иным и был теперь виден весь, со всеми его сложными постройками, сложными кровлями и белыми стенами, наивно расписанными фруктами и цветами, по-прежнему походил на театральную декорацию. За рамой его белых ворот раскрывалась перспектива пустынного сада, темнели высокие тополи с еще не опавшей густой листвой, и среди них, на темном овальном зеркале бассейна, белело два лебедя. Молодая женщина вдруг стала просить мужа, чтобы он позволил хоть на минуту войти во двор.
Ну, на одну минуточку, - говорила она нежно, но настойчиво. - Подумай, мы, может быть, никогда больше не попадем сюда!
Он сначала отказал наотрез, потом, видя ее огорченье, стал колебаться, говорить, что время не терпит, что они могут пропустить эшелон, но в конце концов согласился. Они вошли в ворота. Маленькая девочка с черными косичками, в полосатом платье, сидела на галерее, шедшей вдоль стены. Они спросили ее, где сторож. Она убежала, роняя с ног большие туфли и испуганно оглядываясь на незнакомого офицера с ружьем. Пока она бегала за сторожем, они обошли кругом сад, небольшой, сжатый со всех сторон дворцовыми постройками, бесконечно грустный в это утро. Хотя дождя не было, суконный воротник офицера, серая шапочка и волосы его спутницы были унизаны мельчайшей водяной пылью, похожей на матовый бисер. И под этим беззвучным мельчайшим душем весь сад казался матовым, призрачным, бледным.
Пришел сторож, маленький, толстенький, со связкой больших, разнообразно звеневших ключей, немного напуганный и не умевший скрыть своего изумленья перед странностью этого посещенья в такое время. Впрочем, через несколько минут он вошел в свою привычную роль и повел их по дворцу, отпирая и каждый раз запирая за собой на ключ тяжелые старые двери. В дворцовых покоях стоял грустный, сыроватый сумрак, свет из окон падал на пол бледными озерами, в тени поблескивало то тусклое золото старинной вышивки, то перламутр инкрустации. Голос сторожа, шум шагов, даже само дыханье живых странно будило эту давнюю неживую тишину. Они шли за сторожем, поднимались и спускались по крытым переходам и лестницам, смотрели на поблекшие предметы, на которые он указывал, слушали его старческий голос, звучавший в пустоте, как голос чтеца, бесстрастно читающего над чужим ему мертвецом:
Здесь были покои хана...
Здесь хан принимал послов...
Фонтан слез, воспетый поэтом Пушкиным...
Покои, где помещались жены...
Они смотрели на ковры, на низкие, узкие диваны, покрытые старыми шелками, тлевшей парчой с выпадавшими золотыми нитями, на старинное оружие; шли по широким каменным плитам к маленькой бедной чаше из позеленевшего мрамора - это и был знаменитый фонтан слез; крытыми переходами подымались в светлые обширные покои, где из-за частых золоченых решеток видны были зеленые ветви сада; где, на отгороженном помосте, на черных арабских столиках, были разложены старинные музыкальные инструменты с длинными грифами, выложенными перламутром, стояли узкогорлые золоченые кувшины; старались вообразить себе те руки, которые касались некогда этих струн, которые перебирали эти украшенья, разложенные теперь в стеклянных ящиках, эти шитые цветными шелками и золотом пояса, повязки из негнувшейся парчи, дамасские покрывала и цветные ожерелья...
Обойдя дворец, вышли снова в сад, прошли мимо бассейна - лебеди выжидательно вытянули в их сторону длинные, змеевидные шеи, приблизились к золоченой решетке, за которой белели и серели покривившиеся в разные стороны, обезображенные дождями, мраморные доски кладбища...
Усыпальница ханов, - сказал сторож особенно бесстрастно.
За золоченой решеткой кладбища густая, длинная трава обвивала им ноги, мешала идти. Но сторож упорно боролся с ней, вел к какому-то круглому киоску. Там, на возвышенье, в высоких горбатых ящиках, обернутых султанским пурпуром, под мраморными столбами, увенчанными чалмами в возглавии, лежали ханы, древние владыки этого мертвого дворца, этого мертвого сада. И здесь они постояли немного дольше, бесплодно стараясь представить себе тех, которые сотни лет спали в этих высоких гробах. И между бровями женщины обозначились глубокие, суровые складки... Уже давно бледный, жемчужный свет этого странного, жуткого для них дня, тишина и сон этих потревоженных покоев, все эти старые, дряхлые вещи, умиравшие шелка, тлевшие одежды, все это напрасное, ненужное никому дряхлое великолепие, золотые узоры решеток, за которыми когда-то жили молодые, радостные женщины, подобные ей, бледные розы, тополя сада, мраморные ступени, это заброшенное кладбище, утонувшее в сорных травах, - все сливалось в ее душе, ставшей более нежной, более чувствительной благодаря грядущему материнству, с ощущеньем ее собственной жизни, с тем жутким, неопределенным, трагическим, которое ждало их через несколько дней, через несколько часов, быть может. Сторож говорил еще что-то, предлагал идти в ханскую мечеть, находившуюся за кладбищем, но муж, уже давно напряженно прислушивавшийся к чему-то, внезапно заторопился, стал торопить ее. И, прислушавшись в свою очередь, она уловила какие-то далекие, смутные раскаты, похожие на отдаленный гром, повторявшиеся через равные промежутки времени.

В городе уже начиналось смятенье. На площади не было ни одного извозчика. Их обгоняли люди, тащившие какие-то узлы. На погоны офицера они смотрели удивленно и недружелюбно. Женщины в полосатых покрывалах, согнувшись, испуганно оглядываясь, перебегали через улицу. Перед казенным зданием, у которого они останавливались ночью, не было ни души...
Никого не расспрашивая, они быстро пошли по дороге к станции. Мгла, висевшая над плоскогорьем, густела, делалась непроницаемой. Они почти бежали, не разговаривая, напряженно прислушиваясь к тяжелому гулу, доносившемуся временами из тумана. На перекрестке оба на секунду приостановились: грохот орудий стал громче, временами казалось, что он охватил впереди все небо...
Скорей! - крикнул офицер отрывисто.
Они побежали. Но станция была уже совсем близко, за туманом. Оттуда уже слышалось шумное шипенье паровоза. Когда через несколько минут они, мокрые, задыхавшиеся, вбежали в вокзал, первое лицо, которое они увидели, было черномазое лицо их вестового.
Господин поручик! Господин поручик! - кричал он, махая им рукой издали. - Наш поезд уже здеся! А я уж было забоялся, думал, опоздали...
Они едва успели вскочить в вагон, переполненный людьми...
Републикация Александра и Светланы Клементьевых (Петербург).
Последняя минута меня взволновала. Речь Гальстрема была не только прекрасна, но и истинно сердечна. Кончив, он с милой церемонностью обратился ко мне по-французски:
Иван Алексеевич Бунин, благоволите сойти в Зал и принять из рук Его Величества литературную Нобелевскую премию 1933 года, присужденную вам Шведской Академией.
В наступившем вслед за тем глубоком молчании я медленно прошел по эстраде и медленно сошел по ее ступеням к Королю, вставшему мне навстречу. Поднялся в это время и весь зал, затаив дыхание, чтобы слышать, что Он мне скажет и что я Ему отвечу. Он приветствовал меня и в моем лице всю русскую литературу с особенно милостивым и крепким рукопожатием. Низко склонясь перед Ним, я ответил по-французски:
Государь, я прошу Ваше Величество соблаговолить принять выражение моей глубокой и почтительной благодарности.
Слова мои потонули в рукоплесканиях.
Король чествует лауреатов обедом в своем дворце на другой день после торжества раздачи премий. Вечером же десятого декабря, почти тотчас по окончании этого торжества, их везут на банкет, который им дает Нобелевский Комитет.
На банкете председательствует кронпринц.
Когда мы приезжаем, там уже опять в сборе все члены Академии, весь Королевский Дом и двор, дипломатический корпус, художественный мир Стокгольма и прочие приглашенные.
К столу идут в первой паре кронпринц и моя жена, которая сидит потом рядом с ним в центре стола.
Мое место рядом с принцессой Ингрид, - ныне она датская королева, - напротив брата короля, принца Евгения (кстати сказать, известного шведского художника).
Кронпринц открывает застольные речи. Он говорит блестяще, посвящая слово памяти Альфреда Нобеля.
Затем наступает черед говорить лауреатам.
Принц говорит со своего места. Мы же с особой трибуны, которая устроена в глубине банкетной залы, тоже необыкновенно огромной, построенной в старинном шведском стиле.
Радиоприемник разносит наши слова с этой эстрады по всей Европе.
Вот точный текст той речи, которую произнес я по-французски:
Ваше Высочество, Милостивые Государыни, Милостивые Государи.
Девятого ноября, в далекой дали в старинном провансальском городе, в бедном деревенском доме, телефон известил меня о решении Шведской Академии. Я был бы неискренен, ежели бы сказал, как говорят в подобных случаях, что это было наиболее сильное впечатление во всей моей жизни. Справедливо сказал великий философ, что чувства радости, даже самые резкие, почти ничего не значат по сравнению с таковыми же чувствами печали. Ничуть не желая омрачать этот праздник, о коем я навсегда сохраню неизгладимое воспоминание, я все-таки позволю себе сказать, что скорби, испытанные мною за последние пятнадцать лет, далеко превышали мои радости. И не личными были эти скорби, - совсем нет! Однако твердо могу сказать я и то, что из всех радостей моей писательской жизни это маленькое чудо современной техники, этот звонок телефона из Стокгольма в Грасс дал мне, как писателю, наиболее полное удовлетворение. Литературная премия, учрежденная вашим великим соотечественником Альфредом Нобелем, есть высшее увенчание писательского труда! Честолюбие свойственно почти каждому человеку и каждому автору, и я был крайне горд получить эту награду со стороны судей столь компетентных и беспристрастных. Но думал ли я девятого ноября только о себе самом? Нет, это было бы слишком эгоистично. Горячо пережив волнение от потока первых поздравлений и телеграмм, я в тишине и одиночестве ночи думал о глубоком значении поступка Шведской Академии. Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Вне сомнения, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, - она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий национальный культ Швеции.
И еще несколько слов - для окончания этой небольшой речи. Я не с нынешнего дня высоко ценю ваш Королевский Дом, вашу страну, ваш народ, вашу литературу. Любовь к искусствам и к литературе всегда была традицией для шведского Королевского Дома, равно как и для всей благородной нации вашей. Основанная славным воином, шведская династия есть одна из самых славных в мире. Его Величество Король, Король-Рыцарь народа-рыцаря, да соизволит разрешить чужеземному, свободному писателю, удостоенному вниманием Шведской Академии, выразить Ему свои почтительнейшие и сердечнейшие чувства.
А. Бабореко. Галина Кузнецова
Галина Николаевна - редкость по своим литературным вкусам, по литературной образованности вообще и по своим собственным литературным талантам в прозе и в стихах (которые, кстати сказать, так высоко ценил такой поэт, как покойный Вячеслав Ив. Иванов).
И.А. Бунин
Галина Николаевна Кузнецова писала автору данной статьи: "Родилась я в Киеве 10 декабря (27 ноября ст. ст.) 1900 г. Там же окончила гимназию в 1918 г." - Первую женскую гимназию Плетневой (угол Резницкой и Московской). Ее детство прошло на Печерске, в доме № 3 в Эспланадном переулке, откуда открывался вид на беговую беседку плаца, где бывали смотры, бега. Потом жили на Левандовской улице, по-видимому, в доме № 16. В романе "Пролог" точно описано ее детство. Чуть ли не через полстолетие фотографии мест ее детства и молодости вызвали волнение и радость в ее душе. "Конечно, я все узнала, - писала она 22 июня 1967 г., - несмотря на разросшиеся деревья и некоторые изменения в пейзаже. Как странно смотреть на окна, за которыми когда-то я жила, за которыми сидела в классе! У меня слезы навернулись на глаза! И неважно, что снимки бледные, - мне так грустно и радостно было смотреть на них!"
Смотреть с дальнего берега, - она так и хотела назвать "Пролог" при переиздании, если бы таковое оказалось возможным, "Берег дальний", по Пушкину.
Кузнецова оставила Россию в 1920 г., осенью, по-видимому, в ноябре. Через Константинополь уехала в Прагу. "Литературная моя деятельность, - продолжает она в цитированном выше письме от 8 ноября 1971 г., - началась, собственно, к Праге, где я была студенткой Французского Института (институт не окончила по болезни. - А.Б. ) (первые стихи были напечатаны в "Студенческих годах", 1922 г.). Из Праги я переехала в Париж, где познакомилась с И.А. Буниным и начала уже постоянно печататься в местных газетах и периодических изданиях, главным образом в "Современных записках". В их издательстве вышли последовательно мои книги: "Утро" (1930), "Пролог" (1933), сборник стихов "Оливковый сад" (1937), перевод романа Ф. Мориака Genitrix ("Волчица") в издательстве "Русские записки" (1938) (с предисловием И.А. Бунина). В 1967 г. вышла моя книга "Грасский дневник" <Вашингтон>, записи (неполные), сделанные в годы моей жизни в доме Буниных".
Рукопись ее перевода "Волчицы" Бунин просматривал и кое-что советовал изменить. Она также перевела "Песнь к молодому поэту" Рильке, из Пруста - описание Булонского леса, "очень понравившееся Бунину. В переводах он ценил не тупую точность текста, а как бы перенесение души произведения (подлинника) на другой язык" (письмо 24 января 1970 г.).
Многое из написанного Кузнецовой рассеяно по газетам и журналам, осталось не собрано: в "Последних новостях", в "Новом журнале", в "Новом русском слове" и других изданиях.
Встреча ее с Буниным произошла в Париже. Пражский профессор придумал для нее поручение передать книгу Бунину, чтобы она могла показать ему свои стихи. Он показался ей холодным, надменным; ушла от него разочарованная и решила забыть о знакомстве. "Я не знала, пишет она, - что этот человек в свое время окажет на меня большое влияние, что я буду жить в его доме, многому учиться у него, писать о нем".
На "Бельведере" жизнь Кузнецовой началась в 1927 г., а первый раз она была у Буниных в Грассе в августе 1926 г. Об этом Бунин рассказывает в письме к Кузнецовой 29 июля 1951 г.:
"Нынче Вера вспомнила июль, бывший двадцать пять лет тому назад. Она сказала, что совершенно точно помнит, что мы познакомились с тобой 6/19 июля, а 15/22 ездили в гости к Зайцевым, которые гостили тогда в имении Эльяшевича за les Ares (имение проф. В.Б. Эльяшевича "Пюжет" в департ. Var в Провансе. - А.Б. ), в лесистой местности, недалеко от одного мертвого, полуразрушившегося аббатства (аббатство Торонэ - Аbbауе cistercienne du Thoronet. - А.Б. ) в диком прекрасном лесу, куда мы ходили в тот день с Зайцевыми. А вспомнила все это Вера потому, что переписала нынче на машинке стихотворение мое, написанное сравнительно недавно об этом аббатстве, - под заглавием "Ночная прогулка" (цитирую по ксерокопии с автографа, полученной от Г.Н. Кузнецовой).
Дата рождения: 10.12.1900
Гражданство: Россия
* * *
Жизнь, увы, не предоставила ей никакой иной роли, кроме роли «ведомой». Роли, которая привычно - обычна в жизни женщины, но которая часто – разрушает в ней – Личность. Она не замечала этого. Ей казалось, что все иначе. Ведь ее любили.. До самой смерти.
Впрочем, о чем это я здесь говорю? Боже мой, а так ли уж важна она в женщине – индивидуальность? Нечто странное, неуловимое, что то такое, что нельзя потрогать руками, нечто вовсе неподходящее для обыденной жизни в стиле terre a terre*(* земли, приземленности – франц. - автор.)
Так ли уж опасно было оно, невидимое глазу разрушение, стирание неведомых граней Личности, если было в ее земном круге все необходимое для удобства и спокойствия: обсаженный цветами дом, никак не напрягающая нервы работа, музыкальные вечера по выходным, общество любимой подруги?...
Правда, все время хвастающей перед гостями тем, что она, подруга, сумела подчинить все внимание хозяйки дома лишь Себе одной, заставив ее забыть другое сильное чувство – некогда покорившее и пленившее, казалось, навсегда?...
Но ничего не бывает - навсегда. Ничто не бывает – вечным. Как и сама Жизнь.
* * *
То чувство было похоже на солнечный удар, на накат внезапно высоко поднявшейся волны.. Впрочем, довольно скоро разбившейся о скалы. Это было закономерно. Иначе и не могло быть. Вот только смертельный разбег волны длился не много не мало: четырнадцать лет!
Именно столько времени прошло с того самого момента, как героиня нашего очерка повстречала на грасском солнечном пляже знаменитого русского эмигранта - писателя Ивана Алексеевича Бунина и до встречи ее же с оперною певицей Маргаритой Степун, в чей гостеприимный дом, наполненный звуками рояля, попала она в 1933 году, заболев на обратном пути из дождливого Стокгольма в теплый Грасс..
Впрочем, мы спешим. Очень спешим, читатель. Между отмеченными нами значимыми рубежами биографии была еще целая жизнь, оставшаяся незаметной, незаписанной, полузабытой, стертой, затененной, теми, кто исполнял в ее жизни свои, основные роли. Роли Любящих и Ведущих.
Несколько строк о ней, почти забытой, Жизни..
* * *
Галина Николаевна Кузнецова родилась 10 декабря 1900 года в Киеве, в культурной стародворянской семье.
Детство ее прошло в пригороде Киева, на Печерске, в доме номер три в Эспланадном переулке.
Потом они с матерью и отчимом переехали на Левандовскую улицу с огромными раскидистыми каштанами. С детства Галина Николаевна страстно любила их тень и аромат. Ей казалось, что в Париже каштаны пахнут уже совсем не так. И свечи их не так прямы.
В 1918 году, там же, в Киеве, она окончила первую женскую гимназию Плетневой, получив вполне классическое образование. Вышла замуж довольно рано из - за непростых отношений в семье, о которых глухо упоминает в своем автобиогафическом романе «Пролог» и в дневниках.
Уже ранней осенью 1920 года Галина оставила Россию вместе с мужем, белым офицером - юристом Дмитрием Петровым, отплыв в Константинополь на одном пароходов, наполненных разношерстной толпой людей, в отчаянии и безисходности покидавших истерзанную кровавыми новшествами октябрьского переворота Родину.
Сначала чета Кузнецовых поселилась было в Праге, где жила в общежитии молодых эмигрантов – «Свободарне», но затем из – за слабости здоровья Галины Николаевны, в 1924 году, переехала во Францию. Галина еще в Праге стала студенткой Французского института, ее первые литературные опыты начали тогда же появляться в газетах и журналах.
Крохотными крупицами ее «литературное наследство» рассеяно по ним, эмигрантским изданиям: «Новое время», «Посев», «Звено» «Современые записки»
Встречало все это, разумеется, неизменно доброжелательный отзыв редакторов и критиков, но что то в ее рассказах, этюдах, новеллах – акварельно – холодных, прозрачных, неизменно с несколько растянутым сюжетом («Олесь», «Синие горы» и мн. др.) сквозило холодком: безликое, незапоминающееся. Не было во всем написанном искр души, пламени сердца..
Лишь изысканно - бледное отражение чего то непрочувствованного, недопонятого. Да и она сама, боюсь, всегда и во всем была - «лишь отражением». Поясню свою мысль.
В Галине очень сильно была развита эмпатия.
Психологи четко и строго определяют такое свойство человека, как способность переживать и проигрывать в своей жизни лишь чужие эмоции». Не свои, увы! Свои эмоции тогда бывают запрятаны «зажаты» слишком глубоко. Да и есть ли они? Не иметь своей собственной, сильной внутренней жизни, жить и чувствовать лишь «чужим», все это - черта натур мягких, пластичных, легко поддающихся чужой воле.
А сильная чужая воля довольно комфортно чувствует себя, отражаясь в таких вот «человеческих зеркалах», согласитесь? Они - то ей и нужны, быть может.. Только они. Так уж устроен человек.
Столь странное, «впитывающее», свойство натуры сильно сказалось и на творчестве Галины Кузнецовой. На манере ее письма.
Среди «акмеистически прозрачных» строчек ее стихов и дневниковых записей я нашла весьма примечательный эпизод:
…Чувствую себя посредственно. Голова действует поспешно и беспорядочно. Однако, стараюсь заниматься. Вчера взяла открытку с головой Мадонны и стала описывать ее стихами. Вышло следующее:
В косынке легкой, голову склонив,
Она глядит покорными очами
Куда - то вниз. За узкими плечами
Пустая даль и склоны темных нив,
И городской стены зубчатый гребень,
Темнеющий на светло – синем небе
Она глядит по – детски рот сложив,
И тонкий круг над ней сияет в небе..»
На первый взгляд - ничего странного.. Прелестные поэтические строки. Верные рифмы, совершенное описание. Да, все так. Но в том то и дело, что это всего лишь - описание, без малейшего оттенка каких – либо своих личных, горячих, искренних впечатлений и чувств. Это – не пережитое, не глубокое. Лишь холодное спокойное скольжение взора. Таких стихов у Кузнецовой много. Их довольно высоко оценивали Вячеслав Иванов, Георгий Адамович, М. Бацилли, но холодно - отточенные строки не слишком трогали глубин души и запоминались, ибо, по справедливому замечанию, М. Духаниной - современного критика и исследователя крупиц наследия Кузнецовой - : «…В поэзии Кузнецова, безусловно, - мистик, созерцатель. Она всегда мыслила сложными, абстрактными образами и символами, ловила некие «прекрасные мгновения», которые и являются определяющими для нее в жизни.
Чувства ее смутны, не вполне осознаны и проникнуты приметами неземными, «серафическими». В ее сборнике "Оливковый сад" (1937), например, почти нет стихов о любви; вообще, мало проявлений не только страстей, но и обычных, вполне женских радостей и печалей. Для нее ценно "открывание повсюду таинственных заветных примет… чего? Она не знала, знала только, что именно в них была для нее красота и смысл, без которых все остальное было ненужно и пресно", - так характеризовала Кузнецова саму себя в автобиографической повести "Художник"*. (*М. Духанина. «Монастырь муз». Личное веб – собрание автора очерка.)
И вот в эту - то смутность чувств, ощущений, томлений, желаний, в упорядоченно - скучноватую жизнь довольно обеспеченной зрелой женщины, молчаливо любимой мужем* (*В момент расставания с Дмитрием Петровым Галине Николаевне было уже около 33 –х лет! – автор.) внезапно ворвалась ослепившая сердце и разум молния в облике Ивана Алексеевича Бунина.
Они встречались и как то раньше в Париже, но встреча та им никак не запомнилась. Галина Николаевна должна была передать Бунину рукопись чьей то книги. Она передала, он сказал несколько незначащих слов.Тогда еще ничего не предвещало ни молний, ни грозы, ни ослепляющего солнца! Для Бунина впереди была жизнь в Грассе, для нее прохладые жемчужно – сероватые утра над старинными парижскими крышами, утомительно - унизительная беготня по разными редакциям, ожидание отпусков и выходных, во время которых неизменно ехали с мужем к морю. Галина любила море. Обожала купания и солнечные брызги, которые тысечекратно окутывали ее всю: ладную, маленькую, с плавными линиями фигуры, совсем – совсем не испорченной зрелостью. И самой себе и знакомым она, по прежнему, во многом напоминала озорную девчонку: любила ходить в босоножках - сандалиях, открытых платьях, коротких юбках, любила солнце, которое тоже ласково льнуло к ней. Была загорелой, юной, и немного грустной. Что то невысказанное томило ее.. Но что? Она никак не могла понять.
* * *
В тот роковой для нее и внешне - обычный бархатный сезон лета 1926 года они с Дмитрием приехали на морское побережье лишь на две недели. Отпуск мужа уже заканчивался, когда в один из длинновато - скучных, как ей казалось, «грасских дней», гуляя по пляжу со знакомым редактором и писателем Михаилом Гофманом, Галина Николаевна вновь столкнулась с Буниным и была представлена ему повторно. Он обрадовался знакомству, непринужденно и тепло пожал ее ладонь. Сказал несколько любезных слов, медленно скользнув взглядом по обнаженной ее руке и задержал взгляд на ее улыбке: смущенной немного – Иван Алексеевич был для Галины кумиром, она взахлеб читала его книги и знала наизусть многие стихи.
Какая искра мелькнула тогда между ними, что мгновенно зажглось в тайниках их душ? Что обожгло? Прочел ли Бунин то самое, невысказанное, в ее глазах: томление страстей, острое любопытство, и, может быть, неосознанный даже ею самой до конца, призыв к вечной игре мужчины и женщины – опасной и сладкой, зовущей и одновременно - пугающе зачаровывающей.
В чем он выражался, этот призыв к кокетству, обещающий многое? Не решусь сказать. Просто не могу. Ибо тот, кто когда - либо пытался записывать словами едва начавшую звучать мелодию отношений между двумя, неизменно терпел поражение – есть в этом что – то совсем неподдающееся словам, описаниям, четким понятиям, вообще какой либо логике…
Почти целый год 1926 – 1927 влюбленные встречались в Париже в маленькой квартирке в Пасси, которую Галина сняла сама, почти тотчас по возвращении из Грасса уйдя от мужа.
«Дима – муж», как она называла его в дневнике, поначалу совершенно не мог понять причин ее ухода, а когда она все чистосердечно объяснила - не поверил. Поверив - напился, напившись - пообещал убить шестидесятилетнего соперника! Но наутро после бурного скандала заплаканная Галина обнаружила лишь пустой платяной шкаф и исчезновение двух больших старых чемоданов. Первое время отвергнутый супруг еще приезжал к ней, прося вернуться, одуматься, оставляя на пороге букеты и конверты с деньгами, но она наотрез отказывалась их принимать. Постепенно тихий и незадачливый юрист – шофер такси Дима – Володя Петров (* его имя варьируется в прихотливых воспоминаниях современников – автор.) что то понял и исчез, как призрачная тень. Растворился в парижской сутолоке.
С прошлой жизнью Галину теперь более ничего не связывало, и со свойственной почти всем женщинам способностью мгновенно «стирать» прошлое, как бы выбрасывать его из головы сознательно, она еще сильнее почувствовала себя только юной девочкой. Ей и самой не верилось, что она могла пережить уже слишком многое, на целую взрослую жизнь: замужество, революцию, отъезд из России, скитания эмиграции, литературные поражения и успехи, головокружительный роман, разрыв с мужем! Не верилось, и все тут! Ее полностью, с головой накрыло и захлестнуло ослепляющее чувство, действительно, похожее на солнечный удар, на вспышку молнии, на морской шторм, тайфун, цунами! Она моментально позабыла всех и вся, может быть, даже и саму себя, бедную, но до сравнений ли и анализа тогда было ее, ошеломленной столь бурным потоком чувств, душе? Она наслаждалась настоящим, ибо это было как раз то, о чем всегда неосознанно мечтала: яркое, захватывающее, безумно интересное, мучительное, непохожее на ее прежнюю, на годы вперед расписанную скучную невыносимо, «порядочную» жизнь…
Бунин ошеломил ее не только и не столько страстностью богатой натуры, блеском своего ума, глубиной душевных переживаний, тонкостью понимания сути ее, чисто женского характера – все это было, да, несомненно. Не могло просто – быть иначе. Но было в Бунине что то еще. Что завораживало и властно гипнотизировало Галину. Она постоянно чувствовала себя как бы «оглушенной» им. Безвольно подчинялась магической красивой жесткости его глаз. Словно тонула в нем целиком. Если же опоминалась на час другой, то, ощущая за плечами пустоту, на целый день давала волю слезам и беспомощно рвала письма Бунина и его короткие записки. Но на следующий день вновь покорно ждала его прихода. Ждала встреч на вокзале, в кафе, в Булонском лесу, в театре, концертном зале. В маленькой комнате с зеленым шелком на стенах и окном на садовую ограду Тюильри..
* * *
О «неприлично - бурном романе» Бунина и Кузнецовой вскоре уже судачил весь эмигрантско – светский Париж. «На орехи» в этих пересудах доставалось всем: и седовласым друзьям совсем потерявшего голову писателя, и жене его, милой Вере Николаевне Муромцевой – Буниной, допустившей такой неслыханный скандал и безропотно принявшей всю двусмысленность своего положения.
Кто то оправдывал ее, Веру Николаевну, прошедшую рядом с Буниным тридцатилетний почти путь странствий и скитаний, кто – то крутил пальцем у виска при виде приятной женщины, рано поседевшей, улыбавшейся растерянно, и рассеянно заговарившей со знакомыми совсем не о том, чего требовали от нее простые правила приличия и такт.
Преданая мужем в одночасье Вера Николаевна вся была наполнена не то, чтобы горем и обидою за себя, нет, просто – недоумением.. Что же все - таки Ян мог найти в этой сероглазой, улыбчивой девочке с аккуратным пробором головки леонардовской мадонны?! Он на старости лет совсем сошел с ума! Талант писать у девочки совсем мал и хрупок, словесная палитра ее - призрачно - бедна, и надо еще тщательно и терпеливо учить ее видеть по особенному: и дымку гор, и оттенки гаснущей зари и бирюзовые переливы волн… Дар – не главное в ней, да и силы развиться самостоятельно ему дано, увы, не будет.
Это видно ясно.
Но что же случилось с Яном? Он – ослеп? Ему, должно быть, безумно нравится то, что она, Галина, завороженно слушает его, едва ли не смотрит ему в рот, ловя каждое слово. Что смеется беспрестанно, даже и тогда, когда по настоящему хочется плакать.. Или прилежно пытается записать в рабочей тетради сюжет рассказа, который он дал ей мимоходом. Может быть, Ян так вот просто - напросто хочет удержать время, остановить его бег, он, всегда так безумно боящийся смерти, тления, забвения? Он хочет зачаровать время? Как доктор Фауст?!
Вера Николаевна ничего не знала определенно. Она терялась, мучительно и судорожно размышляла: уйти? Оставить? Бросить? Начать все заново? Но как?! Мыслимо ли ей жить без него, Яна, хоть миг? Нет. И ему без нее - знала точно – нет. От кого еще он сможет иметь и принять столько заботы? Мелочной, каждодневной, необходимой! И вот она, не брошенная, но прочно забытая жена, тихо тонула в этом странном, пугающем ее, треугольнике чувств, каждый день уходила на дно все глубже и глубже.. Что бы могло ее спасти, вернуть на берег жизни? Как можно было бы ей, усталой и уже не очень здоровой женщине, выжить и не сойти с ума посреди подобного душевного ада? Ну как?! Одиночество, да еще в эммиграции, с узким кругом знакомых, было ей - немыслимо. Ни в коей мере. И бедная Вера Николаевна придумала для себя и для них, влюбленных, весьма красивое спасительное оправдание: сумасбродный Ян, ее любимый и обожаемый, полюбил Галину Кузнецову как дочь, ребенка, которого у него почти никогда не было. Что же, видно, так и не зажила в его пылко - восприимчивой душе глубокая рана от потери пятилетнего Коленьки – кудрявого смышленого мальчика, начавшего рано говорить смешными рифмами, и сгоревшего в неделю от скарлатины. Да, именно, как ребенка! На милую Галину просто - напрсто шумной лавиной излилась вся, так и нерастраченная полностью, сила и пылкость его отцовских чувств.
Лишь окончательно убедив себя в том, что молодая сероглазая, начинающая поэтесса и прозаик «волею Божьей» просто заменила Ивану Алексеевичу потерянного в бесшабашной молодости и скоротечном первом браке малыша - сына, Вера Николаевна смогла принять в Грассе, на вилле «Бельведер», Галину Николаевну Кузнецову в качестве «литературной ученицы» мужа и своей «приемной дочери». Ни больше не меньше. Любовный треугольник был чересчур любящей Душой узаконен.
Стороны его внешне были столь гладки, что походили.. Непонятно на что. На некую изломанную фигуру, на луч, все стороны которого пересекались в одной точке – Хозяине дома. Его «я» было центральным, основным, единственно значимым. Только его. И - ничье больше. Вера Николаевна отлично понимала это. Но понимание этого юной «Лаурой» - Галиной вошло в ее ум и сердце - не сразу, увы!
* * *
Иван Бунин свои дневники 1925 -1927 года безжалостно предал огню, Галина же Кузнецова в очаровательном «Грасском дневнике», вместившем в себя почти шесть с небольшим лет жизни с ним в одном доме, ни единым словом не выдает
этой, связывающей ее с хозяином, жаркой и пленительной тайны чувства. Напрасно искать на страницах литературного, изящного, точного в описаниях, увлекательного журнала ее хотя бы крохотного намека нее! Роли в очень странном и таком обычном «спектакле реальной жизни» были строго и четко распределены. Он - Учитель. Она – смиренная ученица. Работает в своей келье грасского «монастыря муз».
(*Так В. Н. Бунина называла виллу «Бельведер» - автор.) Переписывает набело роман мэтра «Жизнь Арсеньева». Читает отобранные им книги. Ведет с ним нескончаемые беседы о литературе. Прилежно исполняет все поручения. Ведет переписку. Принимает гостей в отсутствие хозяйки. Составляет им компании на прогулках. А то, что происходит ночами.. Есть ли кому то до этого дело? Даже и истории, беспристрастно смотрящей на все, сквозь пелену времени..
А впрочем, впрочем…
Частая смена настроений, непонятная и неописуемая тоска и слезы, невозможность самостоятельной литературной работы даже и в незримом внешне присутствии Бунина. Его собственная глухая ненависть, непонятная злоба к тем листкам бумаги, которые она, «милая Галочка» заполняла строками в послеполуденные часы неизвестно почему - одна, вспышки его ничем не оправданного раздражения на всех и вся, глухое неприятие уже ею самой любых совершенно слов и жестов Веры Николаевны, ожесточенная и пугавшая Галину беспричинная ревность к книжному образу Арсеньева (то есть, молодого Ивана Бунина! – автор.) Все это говорит о многом, о слишком многом. Тем, кто может читать сквозь строки и видеть внутренним зрением. И не только о любви, разумеется! Не только.
Вот только несколько характерных записей из знаменитого ныне «Грасского дневника»:
Хотя внешне я весела, втайне мне нехорошо. В.Н* (*жена Бунина – автор) вчера сидела со мной в темноте при горящей печке, и говорила, что очень рада, что у нас живет Зуров*, (* Малоизвестный литератор -эммигрант, приглашенный на виллу Буниным, Зуров был тайно влюблен в Веру Николаевну Бунину и много лет сохранял это чувство. Бунин обо всем знал.Треугольник, таким образом, уравновесился и стал квадратом!- автор.), что он внес в дом оживление, молодость и влияет на меня в этом смысле, а то я чересчур поддаюсь влиянию И. А., живу вредно для себя, не по летам. - Вам надо пожелать только одного, что есть у Зурова, и чего нет у Вас, - сказала В. Н.,- самоуверенности и веры в себя.
Все эти дни грустна, потому что в доме нехорошо. У И. А. болит висок, и он на всех и на все в доме сердится. Впрочем, и без этого он раздражается на наши голоса, разговоры, смех. Мне часто бывает грустно от этого. Я не знаю, как держаться, чтоб были хорошие отношения в доме..
Последнее время все чаще бываю с В. Н. Сейчас она больна и мало выходит. Вчера мы обе оставались вечером дома, лежали на ее постели и говорили о человеческом счастье и о неверности его представления. Человеческое счастье в том, чтобы ничего не желать для себя. Тогда душа успокаивается, и начинает находить хорошее там, где совсем этого не ожидала..»
* * *
Положим, последние слова в записи принадлежат вовсе не Галине Кузнецовой. Скорее уж - Вере Буниной. Галина, конечно, и не думала подписываться под столь сакраментальной, «пожилой» фразой. Она надеялась, что выехав, наконец, из Грасса в Париж, вместе с четой Буниных и Зуровым – как раз к выходу своей книги « Пролог» - автобиографического романа о годах юности в России -, сможет вкусить полноту жизни и вознаградит себя за трехлетнее заточение в « монастыре муз». Она все – таки отчаянно собиралась найти счастье на проторенных, привычных женских дорогах. Смирение ее не особо - то привлекало, хотя она и могла, при встрече с приятельницами в кафе, мило опуская глаза, посетовать на то, что женщинам подчас приходиться смиряться со многим им неприятным, и даже – заплакать, жалуясь на полное отсутствие собственной решительности и воли! Да, может быть, как профессиональный литератор, учась у Ивана Алексеевича, она и сделала громадный скачок вперед: почти за год написала книгу, встреченную тепло и с любопытством, но что, что же все это изменило в ней самой? Что это дало ей? Сделало ли это ее - окончательно счастливой? И где же его все таки искать – призрачное Счастье без воли?
Приятельницы жалели ее, кивая головами, снисходительно пожимая плечами, и провожая насмешливо – презрительными взглядами ее фигурку в светлом вечернем платье, с меховой беличьей накидкой на плечах.
Вырвавшись на свободу от тяжело – ревнивой удушливой опеки и самого Бунина, и смиренной им Веры Николаевны, Галина с огромным удовольствием, словно торопясь, в компании с вездесущим, вспыльчивым, нервным Зуровым, посещала парижские музеи и литературные вечера, с волнением и трепетом собирала, наклеивала и переписывала в дневник все замечания, высказанные кем - либо в прессе и в частных разговорах о ее первой книге.
Бунин же - бледнел, сжимал под столом кулаки, устраивал ей яростно - шипящие выговоры в кабинете на рю Оффенбах, не боясь посторонних ушей и глаз, забываясь донельзя, и вообще, выглядел расстроенным и измученным – так терзала его «частичная эмансипация» возлюбленной! Она в ответ – растерянно смеялась, говорила, что это – необходимо, чуть торжествуя в душе, но его нерность и неровность во всем: жестах, словах, поступках, передавалась и ей, чуткому эмпатику. Галина обрывала прежде регулярные записи дневника, много и бесцельно бродила по улицам, задыхаясь в непривычной, моментально перешедшей в лето парижской весне, стремилась к полному одиночеству. Ее вновь страшно терзала тоска. Опять внутри возникало ощущение чего то невысказанного, странного, рвущего на части сердце. Она вновь стала томиться и ждать. Бунин, как вещий ворон, почуял тревогу и стремительно перевез все свое «неправильно – святое» семейство в привычный, сонный, спокойный Грасс. Мучительное арпеджио в его тягостном романе с «ученицей» растянулось еще на три года. Что было в них, этих годах? Что ожидало ее? Она еще не могла знать. Только предощущала тонкими нервами эмпатика. По возвращении в Грасс личная несвобода Галины Николаевны стала еще более горько и остро ощутима ею. Каждое ее движение – душевное ли, физическое – под ревнивым контролем И. Бунина. « Я не успеваю быть одна, гулять одна…". – с горечью роняла Галина в дневнике.
Положение Кузнецовой вызывает сильное беспокойство у чуткой и бесконечно доброй Веры Николаевны: "…я ночевала с Галей. Много говорили, как ей быть, чтобы больше получить свободы", "Жаль мне Галю да Леню. Оба они страдают. Много дала бы, чтобы у них была удача. Яну тоже тяжело. Сегодня он сказал мне: "Было бы лучше нам вдвоем, скучнее, может быть, но лучше". Я ответила, что теперь уж поздно об этом думать". – писала она в то время в своей тетради.
Леонид Зуров, человек сложный и психически неуравновешенный, пребывал в постоянном унынии, что только усугубляло общую тяжелую атмосферу в доме: "З. вчера говорил мне, - записывает Кузнецова в дневнике, - что у него бывает ужасная тоска, что он не знает, как с ней справится, и проистекает она от того, что он узнал, видел в Париже, из мыслей об эмиграции, о писателях, к которым он так стремился. И я его понимаю".
Давний друг семьи Илья ИсидоровичФондаминский – редактор и издатель -, тоже в свое время деливший кров с Буниными, и потому отлично понимающий, что к чему, своими наездами в гости и разговорами тоже усердно и постоянно растравлял и без того неспокойную душу Кузнецовой: "В неволе душа может закалиться, кудато даже пойти, но мне кажется, все таки будет искривленной, не расцветет свободно, не даст таких плодов, как при свободе", "Вы могли бы все бросить. Но я знаю, что вы выбираете более трудный путь. В страданиях душа вырастает. Вы немного поздно развились. Но у вас есть ум, талант, все, чтобы быть настоящим человеком и настоящей женщиной". – говорит он ей, решительно предлагая сохранять для нее часть выплачиваемых ей гонораров на отдельном счете в банке, без ведома Ивана Алексеевича. Галина соглашается, нехотя, но уже понимая. что иного выхода у нее просто нет.
Кузнецову смущала не только и не столько ее личная "несвобода Женщины и человека". Создавшаяся ситуация усугублялась тем, что молодая писательница по прежнему, фактически, была лишена возможности работать и совершенствоваться в своем мастерстве. "…Нельзя садиться за стол, если нет такого чувства, точно влюблена в то, что хочешь писать. … У меня теперь никогда почти не бывает таких минут в жизни, когда мне так нравится то или другое, что я хочу писать", "… нельзя всю жизнь чувствовать себя младшим, нельзя быть среди людей, у которых другой опыт, другие потребности в силу возраста. Иначе это создает психологию преждевременного утомления и вместе с тем лишает характера, самостоятельности, всего того, что делает писателя", "Чувствую себя безнадежно. Не могу работать уже несколько дней. Бросила роман", "Чувствую себя одиноко, как в пустыне. Ни в какой литературный кружок я не попала, нигде обо мне не упоминают никогда при "дружеском перечислении имен". Клубок тоски и удушаюшей безысходности становился все более запутанным и тугим.
* * *
Маргарита Духанина в своей статье об истории взаимотношений в «грасском четырехугольнике» пишет проницательно: «Кризис в "Монастыре муз" постепенно все нарастал. Все страдали, все, хоть и по разным причинам, чувствовали себя несчастными.»
Абсолютно все. Даже высокая жертвенность Веры Николаевны Буниной не приносила ей теперь столь обычного смиренного удовлетворении. Наоборот.
"… Проснулась с мыслью, что в жизни не бывает разделенной любви. И вся драма в том, что люди этого не понимают и особенно страдают", - записывает она в своем дневнике в мае 1929 года. Примерно в то же время Кузнецова, по прочтении романа А.Моруа "Ариэль" констатирует: "Много интересного. Итог все тот же. Все несчастны". Л.Ф. Зуров откровенно томится, что "… ему постоянно после работы бывает грустно, не хватает молодости, не с кем пошуметь, повеселиться…". "Вы уже стали даже медленно ходить, все себя во всем сдерживаете", - с горечью замечает он Кузнецовой.
Мысль о необходимости перемен не оставляет обитателей грасского монастыря ни на минуту: "Сегодня … вышел очень серьезный и грустный разговор с Л. [Зуровым] о будущем. Уже давно приходится задумываться над своим положением. Нельзя же, правда, жить так без самостоятельности, как бы в "полудетях". Он говорил, что мы плохо работаем, неровно пишем, что сейчас все на карте. Я знаю больше, чем когда - нибудь, что он прав".
На какое-то время нервную обстановку в доме частично разряжает новое лицо: частым гостем здесь становится Ф. А. Степун. Под обаяние его личности попадают все домочадцы: "Он, как всегда, блестящ. В нем редкое сочетание философа с художником… в обращении он прост, неистощим…" - такова характеристика Веры Николаевны. "Вчера у нас на вилле Бельведер в кабинете И.А. был некий словесный балет. Степун насыпал столько блестящих портретов, характеристик, парадоксов, что мы все сидели, ошалело улыбаясь. И.А. ему достойный собеседник, но в нем нет этого брызжущего смакования жизни, которое есть в Степуне", "Он … был весел и весь блистал, резвился, переливался, так что удовольствие было смотреть на него и слушать. При этом он столько людей перевидал, со столькими переговорил за эти последние месяцы, когда ездил с лекциями по разным городам, и все это с самых неожиданных точек зрения оглядывает, с такими неожиданными жестами, дорисовывая, говорит!" - пишет Кузнецова. Много страниц "Грасского дневника" посвящено Ф.А.Степуну. Кузнецова с истинным удовольствием описывает все его стычки и столкновения с Буниным, и чувствуется, как часто в этих спорах она держит сторону гостя, а не хозяина!
Федор Августович Степун - философ, критик, писатель, блестящий спорщик, которому ближе всего были авторы-символисты, - в частности, Блок, Белый с его "Петербургом", точно специально фехтовался с Буниным, во всем с ним не соглашаясь. Таких жарких словесных баталий давно не помнили на Бельведере. Однако лето проходило, Степун - гость Фондаминских - больших приятелей Буниных - возвращался к себе в Германию, а с его отбытием в доме снова воцарялись уныние, скука и общее недовольство. Скоро это "семейное неблагополучие" становится заметно окружающим, и многие перестают бывать у Буниных и не зовут их к себе. И.И.Фондаминский, не скрывая, говорит об этом Кузнецовой: "Я не люблю, когда вы бываете у нас вчетвером. Так и чувствуется, что все вы связаны какой – то просто ниткой, что все у вас уже переговорено, что вы страшно устали друг от друга…" Какое проницательное замечание, не правда ли, читатель?!
Тяжелая психологическая обстановка усугубляется бытовыми неурядицами и все более скудеющими средствами на жизнь: "… мы так бедны, как, я думаю, очень мало кто из наших знакомых. У меня всего 2 рубашки, наволочки все штопаны, простынь всего 8, а крепких только 2, остальные в заплатах. Ян не может купить себе теплого белья. Я большей частью хожу в Галиных вещах", - записывает Вера Николаевна в самый канун 1933 года, года, который разрушил "Монастырь муз" и принес с собой столько радостей и бед, побед и поражений, падений и взлетов, сколько Бунины не знали за всю прежнюю эмигрантскую жизнь.
* * *
О нобелевской премии говорили на Бельведере последние три года - с тех самых пор, как у Ивана Алексеевича Бунина возникли реальные виды на ее получение. Осенью жизнь в доме вертелась вокруг бесконечных обсуждений "кому дадут" и жадного, почти безнадежного ожидания. То же происходило и этой осенью; пик пришелся на 9 ноября, день присуждения премии: "Все были с утра подавлены, втайне нервны и тем более старались заняться каждый своим делом…. И.А. сел за письменный стол, не выходил и как будто даже пристально писал". Уже через несколько часов все стало известно: Бунин и Кузнецова, чтобы "скорее прошло время и настало какое нибудь решение", пошли "в синема", куда и прибежал возбужденный, сам не свой, Зуров с ошеломляющей новостью.
Премия означала грядущие перемены в жизни, пока никто и не предполагал, какие. Даже и по истечении недели после известия в доме царило изумление и известная растерянность: "Мы все еще очнулись не до конца. Я вообще не могу освоиться с новым положением и буквально со страхом решаюсь покупать себе самое необходимое, - записала Кузнецова 17 ноября, добавив в конце: …дальние огни Грасса …. - …чувство, что все это кончено, и наша жизнь свернула куда то…"
Присуждение премии отнюдь не улучшило отношений Бунина с другими писателями эмиграции (и без того сложные, ибо "Бунину ничего не нравилось в современной прозе, эмигрантской или европейской", - и он своих "антипатий" никогда не скрывал.). К неприязни добавилась откровенная зависть некоторых бывших соратников. С Мережковскими вышел скандал и полный разрыв отношений, да и с остальными тоже. Дурной характер Бунина создавал прецеденты для постоянных ссор: с Б.К.Зайцевым, с Тэффи… Тэффи пустила по городу остроту: "Нам не хватает теперь еще одной эмигрантской организации: “Объединение людей, обиженных И.А.Буниным“".
Сложившаяся ситуация очень огорчала Г.Н.Кузнецову, о чем она неоднократно упоминает в дневнике.
Бунин решил ехать в Стокгольм для получения премии самолично. Он взял с собой в поездку Веру Николаевну и Кузнецову (очевидно, Зуров был оставлен дома из - за своей репутации "enfant terrible"). В качестве секретаря с Буниным отправился писатель Андрей Седых (Я.М.Цвибак). Поездка осталась в памяти как триумф: "Фотографии Бунина смотрели не только со страниц газет, но из витрин магазинов, с экранов кинематографов. Стоило И.А. выйти на улицу, как прохожие немедленно начинали на него оглядываться. Немного польщенный, Бунин надвигал на глаза барашковую шапку и ворчал: - Что такое? Совершенный успех тенора. Приемы следовали один за другим и были дни, когда с одного обеда приходилось ехать на другой", - вспоминал А.Седых в своей книге "Далекие, близкие" (1962).
Ничего не предвещало для Бунина грядущих испытаний. Назад решили возвращаться через Берлин и Дрезден, чтобы навестить в Германии милейшего Федора Августовича. Седых вернулся во Францию.
24 декабря 1933 года Вера Николаевна записала в дневнике: "Ян с Ф.А. (Степуном) перешли на "ты". У них живет его сестра Марга. Странная большая девица - певица. Хорошо хохочет".
Что происходило в доме Степунов в декабре 1933 года, доподлинно не известно. Никто из очевидцев записей об этих днях не оставил. Если верить воспоминаниям И.Одоевцевой, которая близко дружила с Галиной Николаевной, "трагедия" произошла сразу: "Степун был писатель, у него была сестра, сестра была певица, известная певица - и отчаянная лесбиянка. Заехали. И вот тут то и случилась трагедия. Галина влюбилась страшно - бедная Галина… выпьет рюмочку - слеза катится: "Разве мы, женщины, властны над своей судьбой?.." Степун властная была, и Галина не могла устоять…"
Маргарита Августовна Степун родилась в 1895 году в семье главного директора известных на всю Россию писчебумажных фабрик. Ее отец был выходцем из Восточной Пруссии, мать принадлежала шведофинскому роду Аргеландеров. Судя по всему, М.А.Степун получила блестящее образование - семья была не только весьма и весьма состоятельной, но и "просвещенной". Любовь к музыке Марга унаследовала от матери. По воспоминаниям Ф.А. Степуна, в доме было "много музыки, главным образом пения. Поет мама и ее часто гостящая у нас подруга".
История и литературоведение сейчас располагает, увы, более чем скудными сведениями о жизни М.А.Степун до встречи с Г.Н. Кузнецовой. Судя по тому, что в Париже она принимала участие в заседаниях Московского землячества и выступала на вечерах с "московскими воспоминаниями", можно предположить, что до революции она жила в Москве. В эмиграции часто выступала с сольными концертами (в Париже впервые в 1938 году), где своим сильным, "божественным контральто" исполняла произведения Шумана, Шуберта, Брамса, Даргомыжского, Сен -Санса, Чайковского, Рахманинова. Скорее всего, именно музыка и прекрасный голос Маргариты Августовны очаровали Галину Николаевну, которая некогда признавала в автобиографической (неоконченной) повести "Художник", разумея себя под главной героиней: "Музыка с детства была для нее чем -то особенным, принадлежавшим к миру волшебных стихий, владевших ею. Она жадно стремилась к ней и не знала, кто может повести ее по правильному пути. Еще в юности у нее была такая тайная мечта: у нее есть друг, гениальный музыкант. Она время от времени приходит к нему, и он часами играет для нее в огромной полупустой студии… Часы, которые они проводят вместе, принадлежат к чемуто самому высокому, самому прекрасному, что бывает на земле…".
Так или иначе, "друг - гениальный музыкант" у Кузнецовой, наконец, появился. Кто знает, быть может, после нескольких лет под одной крышей с деспотичным эгоистом Буниным и мрачным неврастеником Зуровым Галина Николаевна уже не могла себе позволить влюбиться в мужчину…
После возвращения в Грасс жизнь там уже совершенно не та. Зуров и Бунин в состоянии постоянной, скрытой ссоры с Кузнецовой. Вера Николаевна замечает, но не слишком разбирается, в чем дело: "Галя стала писать, но еще нервна. … У нее переписка с Маргой, которую мы
Писатель, сумевший вывести формулу идеальной женщины, конечно, должен быть истинным ценителем женской красоты. «Черные, кипящие смолой глаза… черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, - понимаешь, длиннее обыкновенного! - маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи» - Иван Бунин, как завзятый Пигмалион, всю жизнь искал Галатею, из которой можно вылепить свой идеал. Он нашел ее уже на склоне лет.
Иван Бунин
Любовь писателя и Галины Кузнецовой, которая была моложе его на тридцать лет, стала настоящим вызовом обществу, тем более что образовался такой пикантный любовный треугольник: муж, его стареющая жена и новая пассия. «Представьте, они так и живут - втроем», - судачили окружающие. Но это был тот случай, когда мнение других меньше всего интересовало влюбленных. Все границы были стерты мощным наплывом чувств. «В нем есть какая-то волшебная сила», - писала Галина о Бунине в своем дневнике, признавая, что этой силе невозможно противостоять.
Женщины гения
«Истинная любовь не выбирает» - так Бунин раз и навсегда определил свое отношение к главной из «человеческих страстей». Ему, писателю и поэту, «певцу любви», требовалась постоянная подпитка чувств, поэтому в каждый новый роман он бросался с головой, словно в омут.
О женщинах Бунина можно писать целые тома. В истории остались самые значимые романы писателя, о которых стало известно благодаря письмам и дневникам. Сам же Бунин не имел привычки хвастаться своими победами на любовном фронте. Между тем его первая продолжительная связь началась, когда Бунину было всего 19 лет. С избранницей Варварой Пащенко он познакомился в газете «Орловский вестник», где работал корреспондентом. Родители девушки категорически воспротивились женитьбе, поэтому влюбленные жили, что называется, «гражданским браком». Однако спустя время Варвара влюбилась в друга Бунина и вышла за него замуж.
Через несколько лет Бунин женится на Анне Цакни. Но брак оказался коротким и несчастливым. Их с Анной единственный сын умер в пятилетнем возрасте. Кроме сына, супругов ничего не связывало, Бунин много раз жаловался на холодность со стороны жены: «Сколько раз я раскрывал ей душу, полную самой хорошей нежности, - ничего не чувствует, какой-то».
Иван Бунин и Вера Муромцева
После расставания с Цакни Бунин встретил ту женщину, с которой ему суждено было прожить до самой смерти. Веру Муромцеву, выросшую в дворянской, профессорской семье, друзья называли «прирожденной женой писателя». Высокая «с лицом камеи» блондинка приглянулась Бунину на одном из литературных вечеров. Они тайно начали встречаться. Повторилась давняя история - родители Веры выступили против ее романа, и девушка согласилась жить с Буниным «гражданским браком», без венчания. «Я придумал, нужно заняться переводами, тогда будет приятно вместе и жить, и путешествовать, - у каждого свое дело, и нам не будет скучно…» - такой Бунин видел их совместную жизнь, и Вера безропотно согласилась оставить родных, учебу, увлечения ради любимого. Следующие годы она занята лишь тем, что следит за домом и всеми силами обеспечивает комфорт и уют своему гению. Несмотря на бытовые трудности и тяжелые условия «кочевой жизни», супруги вполне счастливы. Но это безмятежное счастье, увы, уходит от них в Грассе, небольшом городке на юге Франции, где Бунин встречает свою последнюю страстную любовь - Галину Кузнецову.
Встреча с кумиром
Галина Кузнецова родилась в стародворянской семье, получила классическое образование в Киевской женской гимназии. Она довольно рано вышла замуж за юриста, белого офицера, и вместе с мужем уехала в Константинополь. Позже супруги перебрались в Прагу, а потом - во Францию.
Отношения с мужем не складывались, Галина пеняла ему на «слабость характера». Жили очень бедно. Чтобы как-то отвлечься от грустных мыслей, Галина начала писать стихи и прозу. Ее печатают в литературных журналах, критики дают благосклонные оценки. Галина постепенно входит в литературный круг и заводит новые, полезные знакомства. Одно из таких знакомств оказалось поистине судьбоносным. Филолог, поэт Модест Гофман познакомил начинающую поэтессу с Иваном Буниным. Произошло это в Грассе, на пляже, где Бунин делал традиционный заплыв. Писатель был очарован прекрасной незнакомкой, а она оказалась совершенно не в силах сопротивляться его магнетизму. «Вы мой кумир», - призналась Галина в тот вечер. Вернувшись из Грасса, она тотчас объявила мужу, что уходит от него. После бурного скандала, во время которого муж плакал и клялся убить соперника, Галина стала свободной женщиной. С этого момента начинается ее длинный и страстный роман с великим писателем.
Галина Кузнецова
Под одной крышей
Почти год влюбленные встречались в маленькой съемной квартирке в Париже. Бунин разрывался между Парижем и Грассом, женой и новой возлюбленной. Конечно, Вера догадывалась о страсти мужа. Знакомая поэтесса рассказывала, что Вера «сходила с ума и жаловалась всем знакомым на измену Ивана Алексеевича». У супругов даже состоялось бурное выяснение отношений, после которого Бунин уехал в Париж. Но разводиться с женой писатель не собирался, он не хотел лишаться налаженного быта, да и за годы жизни жена стала ему родным человеком. «Любить Веру? Как это? Это все равно что любить свою руку или ногу...» - однажды с удивлением сказал Бунин. В свою очередь Вера не могла уйти от своего обожаемого гения. «Я его люблю. И ничего не могу с этим поделать», - отвечала она на расспросы знакомых.
Галина тоже страдала, ожидая очередного свидания с любимым, не зная, придет он в этот раз или нет. Кончилось все тем, что Бунин поставил жену перед фактом: Галина будет жить с ними в качестве секретаря, ученицы и приемной дочери. Вере ничего не оставалось, кроме как согласиться и закрыть глаза на отношения «учителя» и «ученицы».
Виктор Борисов-Мусатов "Прогулка при закате"
«Пусть любит Галину... только бы от этой любви ему было сладостно на душе...» - писала Вера в своем дневнике. Настолько жертвенной была ее любовь, что она согласилась терпеть рядом присутствие пассии мужа. Галине тоже приходилось несладко, но она пыталась поддерживать хрупкое равновесие в доме, надеясь на то, что со временем Бунин все же сделает выбор в ее пользу. Эта не совсем типичная история отношений затянулась на пятнадцать лет. Что творилось на душе у всех участников «любовного треугольника» все эти годы, остается только догадываться. В своих дневниках все трое делают осторожные записи, ни одного лишнего слова. Впрочем, иногда, нет-нет да и промелькнут какие-то странные подробности «совместной жизни». Например, Вера в записях жаловалась на бедность, говорила о том, что у нее всего две и она часто ходит «в Галиных вещах». У Галины же в «Грасском дневнике» периодически прорывается сдерживаемое недовольство: «приходится считаться с характером И.А., а она за все двадцать лет жизни рядом не может примириться с ним», - пишет она про Веру.
Запутанные связи
Со временем «треугольник» превратился в «квадрат». На вилле поселился литератор Леонид Зуров, которого Вера принялась усиленно опекать. Опека вылилась в преданную влюбленность Зурова в Веру, о чем Бунин, само собой, знал. Обстановка в доме накалилась до предела. «Я не знаю, как держаться, чтоб были хорошие отношения в доме», - пишет Галина в своем дневнике.
Если первое время Галина словно была заколдована Буниным, то напряженные годы в «любовном треугольнике» помогают ей сбросить эти чары. Она наконец осмеливается признаться самой себе в том, что Бунин никогда не уйдет от жены. С этого момента она начала думать о будущем: «Нельзя же, правда, жить так без самостоятельности, как бы в "полудетях"». Жить на положении то ли секретаря, то ли ученицы, ловить на себе косые взгляды, преданно смотреть в глаза гению, отказываясь от собственных амбиций, - нет, не об этом она мечтала! В отличие от Веры Галина более решительна. К тому же она поняла, что ей больше не нравится вести затворническую жизнь, на которой настаивал Бунин. Такой образ жизни подпитывал писателя, но полностью лишал сил саму Галину. А тут еще подоспела Нобелевская премия, получать которую Бунин отправился вместе с обеими «женами».
Наверное, именно в тот момент Галина осознала, как грустно оставаться в тени великого писателя. Сколько сил ушло на перепечатку рукописей, литературные дискуссии, а в итоге, она даже не может претендовать на роль музы гения. Ведь «официальной музой» всегда будет Вера как жена писателя. После вручения премии, на пути из Швеции во Францию, чета Буниных вместе с Галиной останавливается погостить у писателя Федора Степуна. Там Галина заболела, и Бунины уехали домой, оставив молодую женщину на попечение писателя. Вдали от Бунина Галина окончательно освободилась от своей страсти к нему. Более того, в ее жизни наступает новый период. Она неожиданно влюбилась в сестру Степуна, оперную певицу Маргариту Степун. Когда она возвращается в Грасс, следует за ней.
чемоданы . Вместе с Маргаритой она уезжает в Германию. «Галя наконец уехала. В доме стало пустыннее, но легче», - с облегчением запишет Вера в дневнике.
Бунин, с одной стороны, очень переживал разрыв с Галиной. С другой - быстро смирился с потерей, как всегда, переключившись на творчество. После расставания со своим «последним романтическим призом» он написал знаменитый цикл рассказов «Темные аллеи». «Знаете, на свете так мало счастливых встреч», - скажет он в одном из рассказов. Зато, кажется, есть счастливые расставания. Во всяком случае, Вера до конца жизни была рядом с любимым мужем и больше его ни с кем не делила. Галина же нашла свое счастье с Маргой.
«До конца жизни своей Степун ее держала в лапках... они поступили на службу и жили довольно прилично... все было хорошо», - писала близкая подруга семьи. Любовь-зависимость осталась в прошлом. А Галина все же вошла в историю как муза великого писателя. По мотивам ее «Грасского дневника» сняли известный фильм «Дневник его жены», благодаря которому имя Галины Кузнецовой навсегда осталось связанным с именем Ивана Бунина.
Фото: East News, Legion-Media.ru, ИТАР-ТАСС
Обоих захватило страстное чувство. Не остановило их влечение друг к другу и то, что оба к тому времени состояли в браке: Бунин был женат на Вере Николаевной Муромцевой, а Галина была замужем за юристом Дмитрием Петровым , белым офицером, вместе с которым после длительного путешествия прибыла в Грасс. Отношения с ним у Галины не складывались, она упрекала супруга за «слабость характера», жили очень бедно. Она занималась переводами и писала, а Дмитрий не был востребован как юрист, отчего трудился таксистом и души не чаял в любимой жене. Однако этого оказалось недостаточно. Влюбленная в Ивана Алексеевича, Галина чаще стала задерживаться, возвращаясь домой все позже. Наконец, Дмитрий не выдержал и предложил жене раз и навсегда сделать выбор. Выбор оказался не в его пользу. За расставанием последовал скандал. Брошенный супруг намеревался даже убить Бунина, но, в конце концов, уехал из Франции навсегда.
Началась страстная пора в жизни влюбленных. Они встречались в небольшой съемной квартирке с зелёным шёлком на стенах и окном на садовую ограду Тюильри в Париже, куда Бунин часто приезжал из Грасса. Вера Николаевна, конечно же, знала о любовных похождениях супруга, жаловалась на него всем знакомым, между ними даже случилось бурное выяснение отношений, после которых писатель уехал в Париж. Влюбленные продолжали встречаться: на вокзалах, в кафе, в Булонском лесу, театре, концертных залах. В Париже Бунин становился совсем другим. Охваченный как огнем, чувствами к своей пассии, Иван Алексеевич спешил радовать ее походами в кафе и рестораны. В Париже он молодел, растрачивал себя, путал день с ночью и делал именно то, что кажется в Париже таким естественным - любил. Фото: WriterVall Но их встречи были омрачены неизбежным расставанием, ведь писатель каждый раз возвращался домой в Грасс, к своей жене, которую и не думал бросать, к спокойной жизни, строгому писательскому режиму. Так продолжалось год. Не найдя лучшего решения, Бунин пригласил Галину жить вместе с ним и его женой в Грасс, а обескураженную Веру Николаевну поставил перед фактом. Последняя, искренне любя супруга и не мысля жизни без него, согласилась на это унизительное условие и приняла соперницу в свой дом в качестве «ученицы и приемной дочери» писателя.
Этот период был нелегким для всех. Все трое вели дневники, куда в весьма сдержанной манере записывали нюансы их общего быта. В отличие от дневников своих жен, Бунин не имел обыкновения записывать заметки ни об одной из них, тогда, как женщины изредка, но красноречиво жаловались то на безденежье, то на невозможность создать в доме уютную атмосферу. Кроме больших финансовых трудностей, они ежедневно испытывали всеобщее эмоциональное давление. Почти всё их окружение довольно неодобрительно относилось к создавшейся ситуации и ко всем участникам любовного треугольника. Бунину было на это все решительно наплевать, а дамам эти насмешки доставляли большие неприятности. Больше всего доставалось, как ни странно, Вере Николаевне за то, что она этой безнравственности так и не воспрепятствовала.
Ситуация становилась все более обременительной и в виду того, что Ивану Алексеевичу будучи дважды номинированному на Нобелевскую премию так и не удавалось заполучить долгожданную награду. Галина, уже давно освободившаяся от «магнетизма» глаз любимого с каждым днем осознавала свое незавидное положение и откровенно страдала от понимания того, что Иван Алексеевич никогда не бросит жену. Фото: LiveInternet Положение дел несколько выправилась, когда писателю, наконец, удалось стать нобелевским лауреатом в 1933 году. Щедрое денежное вознаграждение, конечно же, позитивно сказалось на общем настроении. Но это было лишь временной анестезией. Хирургическое же вмешательство для удаления тотальной зависимости от Бунина с Галиной случилось во время путешествия из Швеции во Францию, когда они остановились в доме друга Бунина - писателя Федора Степуна . Там Галина неожиданно заболевает и остается до выздоровления. Бунин с женой уехали без нее. На вилле в Грассе: Кузнецова стоит, слева направо: Маргарита Степун, Иван Бунин, Вера Муромцева-Бунина Именно в то время и случилось долгожданное освобождение и более того, новая, совершенно невероятная любовь Галины к сестре Федора - Маргарите Степун, которая последовала за любимой в Грасс после ее отъезда. Говорить о том, что Бунин был в недоумении не нужно. С каждым днем расстояние между Галиной и ним становилось все большее, пока, наконец, он не понял, что эта привязанность у Галины к Марге отнюдь не простая. Эта наконец разрешившаяся ситуация была совершенно невыносима для него, ведь он, знаток женских сердец, оказался лицом к лицу к явлению абсолютно ему непонятному. Говорить о том, что он был попросту взбешен не нужно. Ведь он потерял свою любовь и музу, да еще таким унизительным для него образом! Он так и не смог простить Кузнецову: «Главное - тяжкое чувство обиды, подлого оскорбления… Собственно, уже два года болен душевно- душевно больной».
Галина с Маргаритой вынуждены были находиться на иждивении у Буниных еще целый год во время войны в 1941-1942 гг. Этот год был особенно тяжелым для Галины и Марго. Но, в конце концов, они сумели уехать в Америку, где и жили до глубокой старости вместе. Бунин же остался жить с Верой Николаевной в Грассе, где 3 июня 2017 года планируется торжественное открытие памятника в честь великого русского писателя. Памятник городу будет подарен знаменитым российским скульптором Андреем Ковальчуком по инициативе Ренессанс Франсез.