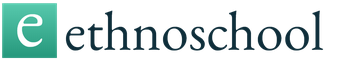Гофман: «чудный великий гений»
«Чудным, великим гением» назвал Гофмана Белинский. И это не было преувеличением. В России были эпохи его исключительной популярности. Это касается не только переводов, бесчисленных изданий, в том числе многих собраний сочинений. Не было, наверное, такого крупного российского писателя, который так или иначе о нем не высказался, который прошел бы мимо его художественного опыта. Перечень этот начинается с Одоевского и Пушкина и продолжается уже в XX в., где должны быть названы имена Сологуба и Булгакова. Можно говорить о глубоком освоении его наследия, о плодотворных аспектах гофмановской традиции в русской литературе. В этом плане с точки зрения значимости для отечественного романтизма, - и не только, - он может быть поставлен рядом с Байроном, Вальтером Скоттом, Жорж Санд. Но влияние его, по сравнению с названными выше художниками, оказалось много долговечнее. Оно вышло далеко за пределы романтической эпохи . Гофмана не только читали с увлечением, о нем спорили, а самый образ загадочного гения романтической эпохи получил художественный отзвук в стихах А. Григорьева, В. Маяковского, А. Ахматовой.
Судьба Гофмана на родине была драматичной; он познал нужду, непонимание, удел тех романтиков (вспомним Блейка, Эдгара По, Гёльдерлина, Уитмена), слава к которым пришла посмертно. В России первый перевод Гофмана появился лишь в год его смерти (1822). С того момента известность его росла, достигла пика в 1830-е гг. Правда, первые переводы были выполнены (как это случалось с другими европейскими романтиками) не с немецкого, а с французского. Юрист В.Ф. Ленау писал об эпохе 1830-х гг.: «Фантастические сказки Гофмана были переведены в Париже на французский язык и благодаря этому обстоятельству стали известны в Петербурге. Пушкин только и говорил про Гофмана». К 1840 г., несмотря на то что мода на романтизм начала медленно, но затухать, было опубликовано более 60 его новелл и полтора десятка критических статей.
Разговоры о Гофмане, разного рода импровизации на «гофманов- ские» темы были приметной особенностью русских литературных гостиных и салонов того времени. Бывал в салоне А.А Дельвига Мицкевич, котрый в пору его пребывания в России «...целые вечера импровизировал разные, большей частью фантастические повести вроде немецкого писателя Гофмана». Устраивались даже сходки любителей Гофмана - «серапионовские вечера» (намек на известный сборник рассказов немецкого романтика «Серапионовы братья»). Вообще Гофман был утешением «в минуты... невзгоды». Герцен написал о нем статью. По свидетельству Белинского, Лермонтов, находясь под арестом на гауптвахте, читал Гофмана, а Кюхельбекер не расставался с ним в Шлиссельбургской крепости. Появились разнообразные подражания автору «Крошки Цахеса» или написанные явно в духе великого романтика. Гофман был столь популярен, что воспринимался не просто как современник, но чуть ли не как соотечественник. Американский литературовед Чарльз Пэссидж даже использовал термин «русские гофманисты», озаглавив подобным словосочетанием свою монографию, хотя сама его концепция влияния Гофмана была явно прямолинейной и не всегда доказательной. Тем не менее
В.П. Боткин, оценивая сложившуюся ситуацию (это писалось в 1836 г.), остроумно заметил, что Гофман не умер, а просто переселился в Россию. Поражали и универсальность Гофмана и его эксцентрический характер.
Тот же В.П. Боткин заметил: «...Мало ли штук делал он в жизнь свою; кем он не был: и юристом, и демократом, и журналистом, и живописцем. Отчего же не быть ему русским литератором?» В этом плане несомненное общетеоретическое значение имеют соображения, высказанные Аполлоном Григорьевым : «Романтизм, и притом наш, русский, в наши самобытные формы выработавшийся и отличившийся, - романтизм был не простым литературным, а жизненным явлением, целою эпохою морального развития, имевшей свой особенный цвет, проводившей в жизнь особое воззрение... Пусть романтическое веяние пришло извне, от западной жизни и западных литератур, оно нашло в русской литературе почву, готовую к его восприятию, - и потому отразилось в явлениях совершенно оригинальных». В 1820-1830-е гг. популяризаторами Гофмана в России сделались влиятельные, главным образом московские журналы «Московский телеграф», «Московский вестник», «Телескоп» и др. Не в пример Германии, где у Гофмана было немало недоброжелателей (даже его великий соотечественник проницательный Гейне в «Романтической школе» в полемическом запале писал, что его творчество «вопль тоски в двадцати томах»), - первые отзывы о нем русских критиков, за редкими исключениями, были самые лестные и комплиментарные.
Если на Западе его нередко воспринимали как «фантазера» и «развлекателя», то в России отношение к нему было более серьезное. И это имело свои причины. Гротескный, нелепый мир Гофмана воспринимался как своеобразный аналог многим несуразностям, чиновно-крепостнической России. Русские критики называли его «волшебник», «неподражаемый», «гениальный», «блистательный», «новый Рафаэль». Даже ставили в ряд с Шекспиром и Гёте. Единодушно признавалась художественная оригинальность Гофмана, его стилевое разнообразие, многогранность, а главное, удивительная способность органического соединения фантастического элемента, гротеска с бытописанием, проникновение в тайны природы, обнаружение миров, незримых, равно как и понимание загадок человеческого сердца.
Но не только его сочинения, сама его неординарная биография становилась предметом читательских размышлении, критической рецепции. Эти соображения, высказанные еще на раннем этапе восприятия гофмановского феномена в России, были в дальнейшем углублены, уточнены и развиты в трудах российских критиков и литературоведов. Они стали своеобразным фундаментом, на котором строилась концепция «русского Гофмана ».
А он был прежде всего не развлекательным, но интеллектуальным чтением. П.А. Плетнев, например, полагал: «Гофман - изумительное явление глубокомыслия, чудного юмора и оригинальной поэзии». По мысли Н.В. Станкевича, фантастическое у Гофмана не странности, оно исполнено глубокой «естественности». Более того, он относил Гофмана к «плодовитым открытиям новейшей философии». Вообще русские критики с увлечением обнаруживали все новые и новые грани в неповторимом гофмановском художественном космосе. А.И. Герцену, например, импонировало у Гофмана понимание непреходящей ценности искусства, а это, как отмечалось, характерная черта многих романтиков, прежде всего немецких: вспомним Шлегеля, Новалиса, Тика, да и того же Гофмана, для которого музыка была таким же призванием, как и литература. Эта особенность проявилась с особой яркостью. И Герцен отмечал присущую ему «непомерную глубину артистического чувства», понимание «внутренней жизни артиста», «души художника». А это вырастало из самой творческой индивидуальности автора, его личной судьбы: эстетическое и этическое взаимосвязаны, что выражено в известных словах Н.А. Полевого: «Надобно быть поэтом, сойти с ума и быть гением, трепетать самому того, что пишешь, растерзать свою душу и напиваться допьяна вином, в которое каплет кровь из души - тогда будешь Гофманом!».
Особенность художественной методологии Гофмана, которую специально акцентировал Герцен, - его своеобразная типологии, выраставшая из самых специфических реалий немецкой действительности. Отход Гофмана от «пластического правдоподобия», наделение его персонажей, «странных, с исковерканными чертами», «отклонениями от обычного прозябания людей» оценивались как очевидный продукт «германской жизни». А это есть тот «скучный порядок вещей», который калечил гофмановских персонажей и «слишком теснил» самого их творца.
Не мог не отозваться на феномен Гофмана Белинский, применивший к нему понятие «гений» и полагавший его самой выдающейся фигурой среди его современников-литераторов. Белинский справедливо объяснял своеобразие художественной философии Гофмана специфическими национальными чертами литературы Германии, а ее отличала способность давать «аналитическую историю души».
В раннюю пору своих идейно-эстетических исканий Белинский исходил из того, что идеальный художник творит «воображаемый мир», а его фантастика улавливает внутреннее содержание действительности, ее глубинные законы. Рассуждения Белинского сводились к тому, что фантастика Гофмана, вобравшая в себя богатые смыслы и функции, отнюдь не становилась некоей формой «бегства от действительности». А между тем подобный тезис, преодоленный ныне, бытовал у критиков, писавших о романтизме вообще и о Гофмане, в частности. Уже в 1840 г. Белинский утверждал: «Гофман - поэт фантастический, живописец невидимого внутреннего мира, ясновидящий таинственных сил природы и духа».
В 1840-е гг., десятилетие, отмеченное новым этапом мировидения Белинского, проблема взаимосвязи Гофмана с немецкими реалиями особо акцентируется критиком. Он называет новеллу «Щелкунчик» «высшим идеалом произведения для детей», а о романе «Житейские воззрения Кота Мурра» пишет: «Ни в одном из своих новых созданий чудный гений Гофмана не обнаружил столько глубокости, юмора, саркастической желчи, поэтического очарования и деспотической, прихотливой своенравной власти над душой читателя». Выделяет Белинский и знаменитую повесть «Крошка Цахес», в которой автор с саркастической желчностью нападает на «идиотов и филистеров» и показывает, что «цари и мещане делаются из одного материала». Показательно, что изменения в литературной ситуации в России, утверждение новых эстетических приоритетов - все это отозвалось на рецепции Гофмана в России. Начиная с 1840-х гг. вместе с укреплением позиций «натуральной школы» интерес к Гофману явно угасает, а фантастическое начало, столь импонировавшее романтикам, воспринимается скептически, правда, не всеми, исключение составляет Достоевский. Теперь Гофман если и характеризуется как «гений», но «безумный» и даже «сумасбродный».
Критики из революционно-демократического лагеря, Чернышевский и Добролюбов, конечно, отдают дань его могучему таланту, но интерпретируют его творчество сквозь призму тех нередко упрощенно понимаемых задач, которые выдвигаются перед русскими писателями, вступившими вслед за Гоголем на дорогу реализма и социально ориентированного искусства.
Чернышевский противопоставляет Гоголя Гофману. Чернышевский видит в нем большого художника, ставшего жертвой немецкого убожества. Он пишет о Гофмане, в связи с его повестью «Повелитель блох», как о художнике, травмированном удручающим зрелищем «мелких немецких городишек», насмотревшимся на жизнь своих соотечественников, погрязших в мелкотравчатом быте, «лишенных всякого участия в общественных делах, ограниченных тесно размеренным кружком своих частных интересов». Уже в канун реформы 1861 г. критик, недавно восторгавшийся Гофманом и его «страшными историями», перестает воспринимать его как писателя, опыт которого актуален для отечественной словесности.
Гофман и русские писатели от Одоевского до Гоголя. Безусловно, Гофман внес очевидный вклад в процесс становления русской романтической прозы. Это особенно заметно у Погорельского (1787-1836), проявлявшего интерес к немецкому писателю. Н.А. Полевой (1796- 1846) был внутренне близок к Гофману, когда одним из первых в русской литературе (повесть «Живописец») озаботился вопросом, касающимся положения художника в обществе, об их внутреннем конфликте и разладе. Влияние немецкого писателя на В.Ф. Одоевского (1803-1869) было столь очевидным, что в литературных кругах его даже назвали «Гофман II». Когда увидели свет его «Пестрые сказки», то критики без обиняков назвали его «известным литератором дарившим “сочинения в гофмановском духе”». О «фантастическом направлении» Одоевского, навеянном Гофманом, свидетельствовал и Г. Белинский. Последнее было справедливо, поскольку Одоевский был самым основательным образом связан с немецкой философской и литературной традицией. В качестве редактора журнала «Мнемо- зина» он озаботился обратить внимание российского читателя на наиболее примечательные, свежие явления культурной жизни в Германии: он выделял философские труды Шеллинга и сочинения Гофмана, «в своем роде человека гениального».
Популярной в России была повесть «Песочный человек»: она показала наглядные образцы гротеска, столь значимого для романтической стилистики, а также продемонстрировала возможности использования фантастики, перерастающей в реальность, и наоборот, реальности, обретающей фантастические очертания. Продуктивными оказались приемы оживления вещей, одухотворения предметного мира, превращения людей в кукол, в заводные механизмы. Здесь Гофман - безусловный новатор!
Пушкин и Гофман. При всем различии художественного мирови- дения двух великих писателей представляется правомерной постановка темы «Пушкин и Гофман», которая уже затрагивалась исследователями. Речь идет не о влиянии, а об определенном внутреннем диалоге, переосмыслении Пушкиным некоторых тем и мотивов, восходящих к Гофману. В личной библиотеке Пушкина были представлены многие русские и зарубежные издания Гофмана. Так, в пушкинской повести «Гробовщик» налицо мрачная таинственность смерти, сочетающаяся с нарочитой заурядностью мещанского быта, на что обращает внимание В.М. Жирмунский: «Гофмана в “Гробовщике” напоминает необычная для Пушкина тематика изображения филистерского мирка московских немцев ремесленников, на который бросает фантастический отблеск профессия русского гробовщика, расположенная в таком же будничном соседстве со смертью». Показателен и эпизод адского новоселья в этой повести. Но при этом очевидно и различие в подходах к изображаемому. Для романтика Гофмана «двоемирие» - это наличие двух равноправных сфер, повседневности и фантастики. Для Пушкина-прозаика, уже стоявшего в 1830-х гг. на реалистической основе, фантастика существует не сама по себе, а вырастает из яви, порождается ею. Страх вызывает не кошмарный сон выпившего гробовщика, а жизнь, его окружающая, то обстоятельство, что в силу своей профессии он заинтересован в смерти возможно большего числа людей.
Стало общим местом в пушкинистике сопоставление «Пиковой дамы» с Гофманом, в частности в плане использования фантастических мотивов. Но при этом нельзя забывать: Пушкин, в сущности, внутренне полемичен по отношению к немецкому романтику, и шире - к романтическому герою в его обычных параметрах. Герман несомненно похож на него: его страсть носит исключительно эгоистический характер, она ориентирована на обогащение и губительна для других людей. Хотя открытие фантастического во многом заслуга романтиков. Пушкин осваивает этот элемент, включает его в реалистическую картину мира, полемизирует с романтической методологией, переосмысляет и углубляет ее достижения (А.Б. Ботникова).
Гоголь и Гофман. Глубокое и плодотворное преломление получила романтическая традиция в творчестве Н.В. Гоголя. С ранних лет он питал интерес к немецкой литературе, чему свидетельство юношеская поэма «Ганс Кюхельгартен». Увлеченный устным народным творчеством, Гоголь следил за разысканиями немецких романтиков в области фольклора. Был близок ему и Гофман, прежде всего как художник, наделенный мощным воображением и фантазией, создавший свой особый художественный мир. Романтическая стихия несомненна в раннем творчестве Гоголя, который, по мысли Андрея Белого, «как романтик, влекся он к чертям и ведьмам и, как Гофман и По, в повседневность вносил грезы».
Перед нами - не влияние и не, конечно же, заимствования, а сходство типологического характера. Оно обусловлено усвоением общих для многих романтизма мотивов, тем, настроений. Это относится к «Петербургским повестям» («Портрет», «Невский проспект», «Записки сумасшедшего»). В них на русском материале Гоголь озабочен широкой философско-эстетической проблемой, столь значимой для Гофмана: это - контраст между истинно прекрасным и светлым, между идеалом и пошлой, скудной реальностью.
Гоголя, как и Гофмана, волновали вопросы искусства, художника, его личности, назначения сущности искусства. Эти вопросы активно обсуждались в середине 1830-х гг., в пору увлечения Гофманом в России. Белинский не случайно называет гоголевский «Портрет» «фантастической повестью в духе Гофмана». Вместе с тем в качестве источника этого произведения могут быть названы «Портрет» В. Ирвинга и «Мельмот Скиталец» Метьюрина. (Позднее эта тема получит преломление в знаменитом «Портрете Дориана Грея» О. Уайльда.)
Образ художника Чарткова, трактовка его коллизии получает более глубокое истолкование во второй редакции повести (1842). У Гофмана Крейслер и другие художники, «энтузиасты», пребывают в «царстве грез», демонстрируют апофеоз «духа», противостоящего «материи». Это имеет неизбежным результатом конфликт наделенного божественными качествами гения с обывательской, филистерской стихией. У Гоголя конфликтная ситуация переведена в ее конкретную реальную плоскость. Талант художника - в разладе с миром, в котором всевластен чистоган. Гофман возвышает художника, подчеркивая его «отделенность» от других людей, полную с ними несовместимость. У Гоголя характер Чарткова - вполне земной, но он меняется под влиянием зародившейся в нем страсти к золоту. Именно оно загубило его искусство, превратило творца, натуру незаурядную, в рядового обывателя. Гоголь намечает обретающую актуальность тему вторжения денежного интереса в сферу искусства, что получит дальнейшее глубокое художественное обоснование у Бальзака («Утраченные иллюзии »), Джека Лондона («Мартин Идеи»), Роллана («Жан Кристоф »), Драйзера («Гений»).
«Вечный раздор» мечты с «существенностью», о чем рассуждает художник Пискарев в «Невском проспекте», в известной мере созвучен гофмановской концепции «двоемирия». Но между двумя писателями очевидно в этом плане различие. На это обращал внимание авторитетный исследователь Н.В. Гоголя Ю.В. Манн. По его мнению, у Гофмана силы зла обретают фантастический, сверхличный характер, в то время как у Гоголя, исходящего из реалистической картины мира, зло - конкретно, объяснимо с жизненной точки зрения. Это фантастика «словесно-образная».
Решающий аспект сближения Гоголя с Гофманом - это симпатия к «маленькому человеку». А это - одна из актуальных проблем для русской литературы.
У Гоголя, как и у Гофмана, налицо форма диалогического произведения : оба осваивали искусство гротеска. Однако русские писатели были далеки от культа «потустороннего». У Гоголя и у Гофмана в сюжете и даже в отдельной фразе нередки комический алогизм, логическая неправильность. Оба писателя склонны к анекдоту, сказке, неординарному происшествию, увлечены идиоматикой.
Гофман снижает высокопарную мечтательность прозаической деталью. В «Крошке Цахесе» студент Бальтазар безумно любит Кандиду, готов драться с опасным соперником, она в его глазах - неземное существо, но в сущности - ограниченная мещанка. Среди ее добродетелей чтение «Вильгельма Мейстера» Гёте, сносная игра на фортепьяно и умение подпевать. «Великолепный» Циннобер, спасаясь от погони, тонет в «серебряном горшке» (ночной горшок), а Ансельму и Серпентине («Золотой горшок») преподносят на свадьбу золотой горшок как символ мещанского материального благополучия. И Гофман, и Гоголь склонны повторять свои шаржи, варьируя их, как бы выворачивая наизнанку. Гоголь изображает Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича по контрасту: у одного голова «редькой вниз», у другого - «редькой вверх».
- Тема «Гофман в России», как закономерная и важная, привлекала многихисследователей (М. Петровский, Т. Левит, И. Неупокоеваи др.), специальнорассматривались такие сюжеты, как Гофман и Пушкин, Гофман и Гоголь,Гофман и Достоевский, Гофман и Булгаков. Значительный вклад в разработку этой тематики внесла А. Б. Ботникова в своей монографии: Э.Т.А. Гофмани литература (первая половина XIX века). Воронеж, 1977. Гофманиана второйполовины XIX - начала XX в. исследована с неменьшей основательностью.
- Краткая характеристика творчества Гофмана.
- Поэтика романтизма в сказке «Золотой горшок».
- Сатира и гротеск в сказке «Крошка Цахес».
1. Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) – романтический писатель, музыкант, художник.
Воспитывался дядей, юристом, склонным к фантастике и мистике . Был всесторонне одаренной личностью. Увлекался музыкой (играл на фортепьяно, органе, скрипке, пел, дирижировал оркестром. Прекрасно знал теорию музыки, занимался музыкальной критикой, был довольно известным композитором и блестящим знатоком музыкальных творений) , рисовал (был графиком, живописцем и театральным декоратором ), в 33 года стал писателем. Часто не знал, во что может воплотиться замысел: «... По будням я юрист и - самое большее - немного музыкант, в воскресенье днем рисую, а вечером до глубокой ночи бываю весьма остроумным писателем», - сообщает он приятелю. Вынужден был зарабатывать на жизнь юриспруденцией, часто жить впроголодь.
Невозможность зарабатывать любимым делом привела к двойной жизни и двойственности личности. Такое существование в двух мирах оригинально выражается в творчестве Гофмана. Двойничество возникает 1) из-за осознания разрыва между идеальным и реальным, мечтой и жизнью; 2) из-за осознания незавершенности личности в современном мире, что позволяет обществу навязывать ей свои роли и маски, не отвечающие ее сущности.
Таким образом в художественном сознании Гофмана взаимосвязаны и противопоставляются друг другу два мира – реально-бытовой и фантастический. Обитатели этих миров - филистеры и энтузиасты (музыканты).
Филистеры: живут в реальном мире, всем довольны, не знают про «высшие миры», поскольку не ощущают в них нужды. Их больше, из них состоит общество, где царит житейская проза и бездуховность.
Энтузиасты: Реальность вызывает у них отвращение, живут духовными интересами и искусством. Практически все – художники. У них иная система ценностей, нежели у филистеров.
Трагизм в том, что филистеры постепенно вытесняют энтузиастов из реальной жизни, оставляя им царство фантазии.
Творчество Гофмана можно условно разделить на 3 периода:
1) 1808-1816 – первый сборник «Фантазии в манере Калло» (1808 - 1814) (Жак Калло, барочный художник, известный своими странными, гротескными картинами). Центральный образ сборника – капельмейстер Крайслер – музыкант и энтузиаст, в реальном мире обреченный на одиночество и страдание. Центральная тема – искусство и художник в его взаимоотношениях с обществом.
2) 1816-1818 – роман «Эликсиры сатаны» (1815), сборник «Ночные повести» (1817), куда входит известная сказка «Щелкунчик и мышиный король». Фантастика приобретает иной характер: исчезает ироническая игра, юмор, появляется готический колорит, атмосфера ужаса. Изменяется место действия (лес, замки), персонажи (члены феодальных семей, преступники, двойники, призраки). Доминантный мотив – владычество демонического фатума над человеческой душой, всесилье зла, ночная сторона человеческой души.
3) 1818-1822 – повесть-сказка «Крошка Цахес» (1819), сборник «Серапионовы братья» (1819-1821), роман «Житейские воззрения кота Мурра» (1819-1821), другие новеллы. Окончательно определяется творческая манера Гофмана – гротескно-фантастический романтизм. Интерес к социально-философским и социально-психологическим аспектам чел-й жизни, обличение процесса отчуждения человека и механистичности. Появляются образы кукол и марионеток, отражающие «театр жизни».
(В "Песочном человеке механическая кукла стала законодательницей зал в "благомыслящем обществе". Олимпия – кукла-автомат, которую ради забавы, ради того, чтобы посмеяться над людьми и потешить себя, известный профессор выдал за свою дочь. И это отлично проходит. Он устраивает у себя на дому приемы. Молодые люди ухаживают за Олимпией. Она умеет танцевать, она умеет очень внимательно слушать, когда ей что-то говорят.
И вот некий студент Натанаэль до смерти влюбляется в Олимпию, нисколько не сомневаясь в том, что это живое существо. Он считает, что нет никого умнее Олимпии. Она очень чуткое существо. У него нет лучшего собеседника, чем Олимпия. Это все его иллюзии, эгоистические иллюзии. Так как она научена слушать и не перебивает его и говорит все время он один, то у него и получается такое впечатление, что Олимпия разделяет все его чувства. И более близкой души, чем Олимпия, у него нет.
Все это обрывается тем, что он однажды пришел в гости к профессору не вовремя и увидел странную картину: драку из-за куклы. Один держал ее за ноги, другой за голову. Каждый тянул в свою сторону. Тут и обнаружилась эта тайна.
После обнаружения обмана в обществе "высокочтимых господ" установилась странная атмосфера: "Рассказ об автомате глубоко запал им в душу, и в них вселилась отвратительная недоверчивость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совершенно удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка фальшивили в пении и танцевали не в такт... а более всего, чтобы они не только слушали, но иногда говорили и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чувства. У многих любовные связи укрепились и стали задушевней, другие, напротив, спокойно разошлись".)
Самые популярные художественные средства – гротеск, ирония, сатирическая фантастика, гипербола, карикатура. Гротеск, по Гофману – это причудливое сочетание различных образов и мотивов, свободная игра с ними, игнорирование рациональности и внешнего правдоподобия.
Роман «Житейские воззрения кота Мурра» - вершина творчества Гофмана, воплощение особенностей его поэтики. Главные герои – реально существовавший кот Гофмана и альтер эго Гофмана – капельмейстер Иоганн Крайслер (герой первого сборника «Фантазии в манере Калло»).
Две сюжетные линии: автобиография кота Мурра и жизнеописания Иоганна Крайслера. Кот, излагая свои житейские воззрения, рвал на части жизнеописание Иоганнеса Крейслера, которое попало ему в лапы и использовал выдранные страницы «частью для прокладки, частью для просушки». По небрежности наборщиков эти страницы тоже были напечатаны. Композиция двупланова: крайслериана (пафос трагический) и мурриана (пафос комедийно-пародийный). Причем кот относительно хозяина представляет мир филистеров, а в кошачье-собачьем мире – представляется энтузиастом.
Кот претендует на главную роль в романе - роль романтического "сына века". Вот он, умудренный и житейским опытом, и литературно-философскими штудиями, рассуждает в зачине своего жизнеописания: "Как редко, однако, встречается истинное сродство душ в наш убогий, косный, себялюбивый век!.. Мои сочинения, несомненно, зажгут в груди не одного юного, одаренного разумом и сердцем кота высокий пламень поэзии... а иной благородный кот-юнец всецело проникнется возвышенными идеалами книги, которую я вот сейчас держу в лапах, и воскликнет в восторженном порыве: "О Мурр, божественный Мурр, величайший гений нашего достославного кошачьего рода! Только тебе я обязан всем, только твой пример сделал меня великим!" Уберите в этом пассаже специфически кошачьи реалии - и перед вами будут вполне романтические стиль, лексикон, пафос.
Или, например: Читаем печальную повесть жизни капельмейстера Крейслера, одинокого, мало кем понимаемого гения; взрываются вдохновенные то романтические, то иронические тирады, звучат пламенные восклицания, пылают огненные взоры - и вдруг повествование обрывается, подчас буквальна на полуслове (кончилась выдранная страница), и те же самые романтические тирады бубнит ученый кот: "...я твердо знаю: моя родина - чердак! Климат отчизны, ее нравы, обычаи, - как неугасимы эти впечатления... Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое неодолимое стремление в высшие сферы? Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх, такие достойные зависти отважные, гениальнейшие прыжки? О, сладкое томление наполняет грудь мою! Тоска по родному чердаку поднимается во мне мощной волной! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная родина..."
Мурриана – сатира на немецкое общество, его механистичность. Крайслер – не бунтарь, верность искусству возвышает его над обществом, ирония и сарказм – способ защиты в мире филистеров.
Творчество Гофмана оказало огромное влияние на Э. По, Ш. Бодлера, О. Бальзака, Ч. Диккенса, Н. Гоголя, Ф. Достоевского, О. Уайльда, Ф. Кафку, М. Булгакова.
2. «Золотой горшок: сказка из новых времен» (1814)
Гофмановское двоемирие проявляется на разных уровнях текста. Уже жанровое определение сочетает два временных полюса: сказка (сразу отсылающая в прошлое) и новое время. Кроме этого, подзаголовок можно трактовать и как сочетание фантастического (сказка) и реального (Новое время).
Структурно сказка состоит из 12 вигилий (изначально – ночная стража), 12 – мистическое число.
На уровне хронотопа сказка также двойственна: действие происходит во вполне реальном Дрездене, в Дрездене мистическом, открывшемся главному герою Ансельму, и в таинственной стране поэтов и энтузиастов Атлантиде. Время также знаково: события сказки происходят в день Вознесения Господня, что отчасти намекает на дальнейшую судьбу Ансельма.
Образная система включает представителей фантастического и реального мира, Добра и Зла. Ансельм – молодой человек, который обладает всеми чертами энтузиаста («наивной поэтической душой»), но пока находится на перепутье между двумя мирами (студент Ансельм – поэт Ансельм (в последней главе)). За его душу идет борьба между миром филистеров, который представляет Вероника, надеющаяся на его будущую блестящую карьеру и мечтающая стать его женой, и Серпентина, золотисто-зеленая змейка, дочь архивариуса Линдгорста и по совместительству – могучего волшебника Саламандра. Ансельм чувствует себя неловко в реальном мире, но в минуты особых душевных состояний (вызванных «пользительным табаком», «желудочным ликером») способен видеть иной, волшебный мир.
Двоемирие реализуется также в образах зеркала и зеркальных предметов (зеркало гадалки, зеркало из лучей света от перстня архивариуса), цветовой гамме, которая представлена оттенками цветов (золотисто-зеленая змейка, щучье-серый фрак), динамичными и текучими звуковыми образами, игре со временем и пространством (кабинет архивариуса, как и Тардис в современном сериале «Доктор Кто» внутри больше, чем снаружи))).
Золото, драгоценности и деньги обладают мистической силой, губительной для энтузиастов (именно польстившись на деньги, Ансельм и попадает в склянку под стекло). Образ Золотого горшка неоднозначен. С одной стороны – это символ творчества, из которого вырастает Огненная Лилия поэзии (аналог «голубого цветка» романтизма у Новалиса), с другой – изначально он задумывался как образ ночного горшка. Ирония образа позволяет раскрыть настоящую судьбу Ансельма: он обитает с Серпентиной в Атлантиде, но фактически живет где-то в холодной мансарде здесь же в Дрездене. Вместо того, чтобы стать преуспевающим надворным советником, он стал поэтом. Финал сказки ироничен – читатель сам принимает решение, счастливый ли он.
Романтическая сущность героев проявляется в их профессиях, внешности, бытовых привычках, поведении (Ансельма принимают за сумасшедшего). Романтич-кая манера Гофмана – в использовании гротескных образов (преображение дверного молотка, старухи), фантастики, иронии, которая реализуется в портретах, авторских отступлениях, задающих определенный тон в восприятии текста.
3. «Крошка Цахес, по прозванью Циннобер» (1819)
Повесть-сказка также реализует двойственность гофмановского характера. Но, в отличии от «Золотого горшка», она демонстрирует манеру позднего Гофмана и представляет собой сатиру на немецкую действительность, дополненную мотивом отчуждения человека от того, что им создано. Содержание сказки актуализируется: она переносится в узнаваемые жизненные обстоятельства и касается вопросов общественно-политического бытия эпохи.
Двуплановость новеллы раскрывается в противопоставлении мира поэтической мечты, сказочной страны Джиннистан, миру реальной повседневности, княжеству князя Барсануфа, в котором происходит действие новеллы. Двойственное существование ведут здесь некоторые персонажи и вещи, поскольку они совмещают свое сказочное волшебное бытие с существованием в реальном мире (фея Розабельверде, Проспер Альпанус). Фантастика часто сочетается с бытовыми деталями, что придает ей ироничный характер.
Ирония и сатира в «Золотом горшке» направлена на мещанство и имеет морально-этический характер, а здесь она более острая и получает социальное звучание. Изображение карликового княжества Барсануфа в гротескной форме воспроизводит порядки многих немецких государств с их деспотическими правителями, бездарными министрами, насильственно вводимым «просвещением», ложной наукой (профессор Моше Терпин, изучающий природу и для этого получающий «из княжеских лесов редчайшую дичь и уникальных животных, которых он и пожирает в жареном виде, чтобы исследовать их природу». Кроме того, он пишет трактат, почему вино отличается от воды и «уже изучил полбочки старого рейнского и несколько дюжин бутылок шампанского и теперь приступил к бочке аликанте») .
Писатель рисует мир ненормальный, лишенный логики. Символическим выражением этой ненормальности выступает заглавный герой сказки Крошка Цахес, который не случайно изображен негативно. Цахес – гротескный образ уродливого карлика, которого добрая фея заколдовала, чтобы люди перестали замечать его уродство. Волшебная сила трех золотых волосков, символизирующих власть золота, приводит к тому, что все достоинства других приписываются Цахесу, а все просчеты – окружающим, что позволяет ему стать первым министром. Цахес и страшен, и смешон. Страшен Цахес тем, что обладает явной силой в государстве. Страшно и отношение к нему толпы. Массовая психология в иррациональном ослеплении кажимостью возвеличивает ничтожество, слушается его и поклоняется ему.
Антагонистом Цахеса, с помощью чародея Альпануса открывающего истинную сущность уродца, выступает студент Бальтазар. Это отчасти двойник Ансельма, способный видеть не только реальный, а и волшебный мир. При этом его желания находятся целиком в мире реальном – он мечтает жениться на милой девушке Кандиде, причем богатство, обретенное ими, представляет собой филистерский рай: "сельский дом", на приусадебном участке которого произрастает "отменная капуста, да и всякие другие добротные овощи"; в волшебной кухне дома "горшки никогда не перекипают", в столовой не бьется фарфор, в гостиной не пачкаются ковры и чехлы на стульях...». Не случайно «вигилия 12-я», говорящая о неоконченности судьбы Ансельма и его продолжающейся жизни в Атлантиде, сменяется здесь «главой последней», что указывает на финал поэтических исканий Бальтазара и его поглощенность бытом.
Романтическая ирония Гофмана двунаправлена. Ее объектом является и жалкая действительность, и позиция энтузиаста-мечтателя, что свидетельствует об ослаблении позиций романтизма в Германии.
Глава первая. Становление сатирических тенденций в творчестве Э.Т.А.Гофиана 1809 -1815 гг. /"Фантазии в манере Калло", "Ночные рассказы"/
Глава вторая. Особенности сатирической критики действительности в сказках Э.Т.А.Гофмана 1815 - 1822 гг.
Глава третья. Место сатиры в романе Э.Т.А.Гофмана
Житейские воззрения кота Мурра."
Введение диссертации1984 год, автореферат по филологии, Скобелев, Андрей Владиславович
Давно уже стало общим местом в литературоведении говорить об Эрнсте Теодоре Амадее Гофмане как о сатирике. Пожалуй,еще со времен Жан-Поля-Рихтера, в 1813 году отметившего в творчестве начинающего писателя наличие "огненного дождя сатимико-критического начала в произведениях этого крупнейшего немецкого романтика.К тому, разумеется, есть все основания.
Однако при знакомстве с литературой по этому вопросу бросается в глаза, что сатира,юмор и ирония часто выступают как синонимичные понятия, употребляются без четкого определения их значения. Очевидная и явная комическая стихия гофмановско-го творчества выступает как некое нерасчлененное единство.Меж-ду тем комическое у Гофмана многообразно и многозначно* Его смех может выступать в форме чистого юмора, преодолевающего противоречия действительности С"абсолютный комизм" - по Водности мира, из чего вытекает ироническая позиция художника по отношению к нему. И, наконец, смех может быть недвусмысленно направленным на конкретные исторические, социальные и нравственные явления действительности и иметь сатирический характер.
История восприятия гофмановского наследия на родине писателя и 8а рубежом - особая. В ней ярко отразились перемены в общественном сознании каждого исторического этапа. Отношение разных поколений исследователей к сатирической и - шире - комической направленности творчества Гофмана органично входит в целый комплекс проблем, связанный с развитием мировой эстетической мысли. ры,ни один критик: не обходится без констатации мощного ко1 может быть субъективным выражением чувства недостаточ
Современники писателя отмечали сатирические черты его з творчества, однако относились к нему по-разному Жан-Поль считал, что в творчестве Гофмана "юмор перерастает в настоящее сумасбродство1"4. Л.Тик токе упрекал автора "Кота Мурра" с в том, что "поэзия превратилась у него в карикатуру, зато Г.Гейне в "Романтической школе", как известно, ставил Гофмана "гораздо выше" Новалиса, "ибо последний со своими идеальными образами постоянно витает в голубом тумане, тогда как Гофман со своими карикатурами всегда и неизменно держится земной реальности"^.
Вместе с тем, ни у Гейне, ни у других младших современников Гофмана не было полного приятия гофмановской сатиры,как, впрочем, и всего творчества писателя. Широта и обобщенность романтической сатиры Гофмана, ее странно-гротесковый характер вызвали резкую критику Л.Берне, который написал специальную работу о романе "Житейские воззрения кота Мурра." под показательным заголовком - "Патология юмора" (НитомР-РАЬоРо-, 1829)7. Сколь ни неожиданна отрицательная оценка одного из лучших произведений Гофмана, она понятна: "младогерман-цы" и остальные представители предмартовского движения требовали от искусства не только обостренного внимания к конкретной политической злобе дня, но и вообще трезво-практического подхода к вопросам современности. Именно последнего им превде всего и недоставало в творчестве Гофмана, как и во всей романтической литературе, утратившей к тому времени и свою актуальность, и свое былое величие. Тогда же создается легенда о Гофмане, как о человеке, абсолютно удаленном от общественной жизни, испытывающем отвращение уже при одном виде газето ного листа0. Понятно, что при таком подходе никто не обращал внимания на сатирические страницы творчества писателя.
Совершенно иное отношение к гофмановскому наследию в XIX о веке складывалось ва рубежом и, прежде всего, в России. ". Гофман удивительным образом "пришелся ко двору" всей русской эстетической мысли, которая усматривала в его творчестве созвучные себе тенденции"^. О творчестве: Гофмана, о его комическом содержании сочувственно отзывались такие русские критики 20-х - 30-х годов XIX века, как Н.И.Надеждин и Н.А.Полевой, С.П.Шевырев и ША.Плетнев. Последний воспринимал творчество немецкого романтика как "изумительное я вление глубокомыслия, чудного юмора и оригинальной поэзии"^. Однако в 30-е годы писатель воспринимался в первую очередь как юморист.
В 1836 году А#И.Герцен говорил о "пламенном" гофмановском юморе, который изливался Нна все окружающее". Юмор вдесь трэктуется Герценом как художественная форма выражения несоответствия между мечтой^и реальностью: "Юмор Гофмана весьма отличен и от страшного, разрушающего юмора Байрона, подобного смеху ангела, низвергающегося в преисподнюю, и от ядовитой, адской, змеиной насмешки Вольтера, этой улыбки самодовольствия, с сжвтыми губами. У него юмор артиста, падающего вдруг из своего Эльдорадо на землю, - артиста,который среди мечтаний замечает, что его Галатея - кусок камня, - артиста,у которого в минуту восторга жена просит денег детям на башмаки" . Однако при ©том те произведения Гофмана,в которых юмор обладает сильной критической направленностью и где важную роль играет сатира Герцен называет "шалостями", "дурачествами сильного воображения": "Вот вам "//а^йг ЛоЬ "Принцесса Брамбилда", "Циннобер", "Золотой горшок";. Это все сны, один бессвязнее другого. Тут нет ни мыслей, ни эавязок, но
1 р занимательность ужасная" .
В.Г.Белинский значительно более точен и справедлив в оценке критической направленности произведений немецкого писателя и их комической струи. Он считает, что ".»Гофман в самых нелепых дурачествах своей фантазии умел быть верным идее? что сильными сторонами его творчества были "едкий юмор и всег
1 я да живая мысль. Рецензируя "Антологию из Жан Поля Рихтера",
Белинский подчеркивает социальную сторону гофмановского комиэма, его обличительную функцию: "Юмор Гофмана гораздо жизненен, существеннее и жгучее юмора Жан Поля - немецкие гофраты, филистеры и педанты должны чувствовать до костей своих силу
1 д юмористического Гофманова бича" . В письме к друзьям, жалуясь на сложность своей деятельности в условиях николаевской России, Белинский неоднократно вспоминает Гофмана-сатирика.
Я теперь понимаю саркастическую желчность, с какою Гофман на
1 ^ падал на идиотов и филистеров пишет он в письме к В,П. Боткину от 14-19 марта 1840 г. В другом письме к тому же адресату (от 16-21 апреля 1840 г.) он повторяет почти дословно: " .Российская действительность ужасна гнетет меня. Я теперь понимаю раздражительность Гофмана при суждении глупцов об искусстве, его готовность яввить их сарказмами"*^. Характерно, что Белинский обращает внимание на социальную направленность сатиры Гофмана.
Вторая половина XIX в. не была порой внимательного изучения творчества Гофмана ни в России, ни эа ее пределами. Только в начале нового столетия историки литературы вновь обращаются к его наследию. Тогда собираются и издаются его сочинения, впервые научно прокомментированные, письма, дневники. Это касается не только литературных произведений Гофмана, но и музыкальных. Издаются также альбомы рисунков писателя. Ученые проявляют повышенный интерес к материалам его биографии, что было, с одной стороны, необходимо и оправдано, но, с другой, -нередко приводило к наивно биографическим трактовкам ряда произведений^7. Наиболее существенным недостатком биографического метода было сужение содержательного момента произведения до отражения в нем только личного опыта писателя. Понятно, что при таком подходе вопрос о сатирической направленности творчества Гофмана в лучшем случае подменялся вопросом о прототипах тех или иных обрвэов, личным отношением биографи
Г.Эллингер в своей работе "Э.Т.А.Гофман и его произведения" рассматривает сатирическое содержание "Кота Мурра" как простое отражение бамбергских впечатлений писателя: советница Бенцон для него равна консульше Марк, а Юлия из романа
19 ее дочери, ученице Гофмана. Близких к Г.Эллингеру взглядов ол придерживаются Э.Гривебах, Г.Мюллер, РЛПаукал. Э.Гризебах хотя и говорит о сатирической направленности некоторых произведений писателя, но не останавливается на ней, ограничиваясь лишь констатацией объектов сатирического осмеяния. В "Крошке Цахесе" он ввдит сатиру на двор, а в "Выборе невесты" - на жажду титулов и званий^1. Это, конечно, верно, но недостаточно.
Первым немецким литературоведом, в начале XX века прсвя-тившим специальную главу своей монографии "В.Т.А.Гофман" проб леме сатиры и юмора, был А.Закхайм. Исследователь склонен видеть в сатире и юморе Гофмана некую эстетическую игру,считая, что они вырастают из внутренней противоречивости и артистической склонности к приукрашиванию и преувеличению. Зачисляя Гофмана в эпикурейцы, А.Закхайм утверядает, что он якобы "не любил слишком раздражать судьбу и начальство", т.е., в сущности говоря, снимает вопрос о серьезности гофмановской сатиры. Рассматривая при этом "тривиальность, рассчитанные чувства, покорное умственное убожество, сонливость, формализм и педантичность" как основные объекты сатиры писателя, исследователь кратко останавливается и на способах их осмеяния,
22 наиболее характерных для Гофмана*" .
В 20-е - 30-е годы XX века количество исследований,посвященных Гофману, резко возрастает. Но и среди них нет ни одной; работы, специально разрабатывающей проблему его сатиры. Большинство ив них направлено на выявление самых общих вопросов гофмановского мировоззрения, его связи с романтической философией. Часто проводится сравнение творчества Гофмана с творчеством его современников. Такова работа Г.Эгли (1927) , где выявляется влияние на писателя идей романтической натурфилософии, дуализм Гофмана рассматривается какоснова его 1 юмора, такова работа Г«Дамена С1929) и капитальное исследование Э.Шенка (1939)23. Вопрос о бытии тсатиры в произведениях Гофмана эдесь возникает лишь как побочный, сопутствующий разработке других проблем.
В ряде работ немецких идследователей стихия комического у Гофмана рассматривается в духе психоаналитических теорий К.Г.Юнга24. Главный недостаток этих исследований заключается в том, что их авторы, обращаясь к анализу произведений писателя, заранее исходят из ложных посылок. Сатира в искусстве рассматривается ими как сублимация агрессивного инстинкта, а не как следствие эстетического и социально-критического отношения художника к действительности. Сатирическое начало в этом случае рассматривается как проявление "Маски", т.е. угрожающего человеческой сущности влияния внешнего мира в его социальном облике^ А.Глоор в книге "Э.Т.А.Гофман. Поет беспочвенной духовности" видит в сатирических страницах истории Кнаррпанти из "Повелителя блох" сублимацию агрессивности, якобы присущей сознанию писателя2^. Аналогична точка зрения В.Поста, который рассматривает гофмановскую иронию как "оборонительное средство"2^, а сатиру - как выражение агрессивной позиции автора по отношению к объекту осмеяния» В чисто психологическом плане рассматривается гротеск Гофмана в книге В.Кайзера "Гротеск в живописи и литературе". Гротеск трактуется здесь как "остраненый мир", как "изображение "Оно", как
27 игра с абсурдным.
Все перечисленные работы не обращают внимания на связь сатиры и юмора Гофмана с реальной действительностью и у&е в этом смысле методологически недостаточны. Вопрос о сатирической направленности произведений писателя неизбежно связан преяде всего с содержательным моментом его творчества,с проблемой отражения действительности, с оценкой ее конкретных явлений.
Впервые зависимость гофмановской комики от реальной действительности была рассмотрена Х.Кон в диссертации "Реализм и трансцендентность в романтизме, особенно у Э.Т.А.Гофмана" (1933). Критико-юмористическая трактовка действительности связывается автором с "реалистическими описаниями комичных объектов". Реализм понимается как изображение видимой реальности, которое, по мнению автора, служит лишь "импульсом для
28 ирреального переживания. Тем самым сатира мыслится не как средство осмысления и оценки действительности, злишь как одна из форм, способствующих постижению трансцендентальных истин.
В немецких и англосаксонских литературоведческих работах, появившихся после второй мировой войны, неишенно упоминается о сатирических тенденциях в гофмановском творчестве. Обычно называются такие вещи, как "Крошка Цахес", "Кот Мурр" и др, Отмечается "актуальность" сатирических характеристик и рп их связь с критикой общественных институтов. Однако для большинства исследователей главным является не анализ сатиры в творчестве писателя, а подчеркивание в: нем неких мифологизирующих начал. К.Негус говорит о "мифическом образе ми-чп ра" у Гофмана. М.Тальман усматривает в гофмановских карикатурах "не критику общества, а страх перед деформацией"01. Соединение смешного со страшным в произведениях писателя -один из художественных принципов, призванных выразить отчуждённую действительность. Собственно комическая стихия оказывается вне поля зрения М.Тельман,
Иррациональный, а потому лишь опосредованно связанный с действительностью характер комического у Гофмана подчеркивает и Т.Крамер в книге "Гротескное у Гофмана" (1966). По его мнению, гротеск образуется "напряжением между смешным и страшным" и не имеет ничего общего с сатирой Таким образом, хотя предметом исследования у Крамера становятся разные формы гротескного в творчестве Гофмана, исходная точка зрения автора препятствует выявлению их связи с социальным Скомико-критическим) содержанием произведений писателя. И.Штрошнейдер-Корс в своем солидном исследовании также упоминает сати
83 рические элементы в творчестве Гофмана, но вопрос о их социальной и политической направленности остается за пределами внимания автора, прежде всего занятого исследованием философских основ гофмановской иронии. К для В.Прейзенданца "существенной и своеобразной структурой" гофмановской фантазии является юмор. Он "возвышается над другими категориями комическо
34 го, в том числе, и над сатирой, которая поэтому не вызывает у ученого никакого интереса к себе.
Собственно вопросам сатиры Гофмана посвящены две работы: диссертации В.Хефлера"и Б.Резер. Автор первой из них ограничивается развернутым перечислением объектов сатирического осмеяния в творчестве Гофмана (буржуазия, играющая искусством, ограниченные светские дамы, псевдоученые, склонные к национализму студенты и злоупотребляющие французским языком дворянство),». Теоретически эта работа слаба, а методологически несостоятельна. К тому же она содержит целый ряд ошибок и необоснованных допущений, за что неоднократно подвергалась справедливой критике^. Наиболее солидным исследованием, направленным на выявление особенностей гофмановской стихии комического, является диссертация Б.Резер.
А.втор ©той работы ставит своей целью рассмотреть сатиру и юмор у Гофмана, обращая внимание и на взаимоотношения обоих
37 видов комического^ . (От рассмотрения соотношения сатиры и романтической иронии Б.Реэер отказывается). Путем сравнения произведений Гофмана с сатирическим творчеством Л.Тика, Й.Эйхендорфа и безымянного автора "Ночных бдений Бонавентуры" исследовательница стремится выявить общие черты романтической сатиры. Она признает объективный характер комического. Основу комизма составляет внутренняя противоречивость объекта и конфликт между идеалом и действительностью. Для Б.Резер несомненен исторический и социальный базис творчества писателя-сатирика. Она считает, что до сих пор нет удовлетворительной теории сатиры, поэтому стремится разработать свою концепцию, опираясь на идеи К♦Назаровича^8. Здесь наиболее уязвимой,на наш взгляд, является мысль о том, что сатирик, всегда создающий в -своем произведении "мир наизнанку" (<гА"е 7 непременно должен противостоять не только объекту сатирического го осмеяния, но и своему читателю.
Далее, рассмотрев взгляды на сатиру Фр.Шлетеля, Жан-Поля, К.-В.-Ф.Зольгера и Гофмана, остановившись на гофмановской дуалистической картине мира и поэтологических принципах писателя, Б.Резер переходит к анализу комико-критической стихии "Крейслерианы"» Она вццеляет сатирическую направленность произведений Гофмана, хотя С в противоречие своей теории сатиры) не демонстрирует ни создания в них "мира наизнанку", ни авторского противостояния читателю.
В последующих главах работы Б.Резер более последовательно придерживается своих теоретических высказываний, а поэтому оказывается менее справедлива в выводах. Сопоставляя "Повелителя блох" Гофмана с политической сатирой Эйхендорфа ("И я бывал в Аркадии"), Б.Резер говорит о случайном характере гофмановской сатиры в знаменитом эпизоде с Кнаррпзнти.А сравнивая "Крошку Цахеса" с "Миром наизнанку" Тика,трактует оба произведения как сатирические выпады против Просвещения, чем явно сужает проблематику сказки Гофмана,ее комико-критическую направленность.Однако и здесь,по мнению Б.Резер, гофманов-ская сатира "уходит в песок"4^.
Анализируя "Житейские воззрения кота Мурра", исследователь отказывается от рассмотрения комико-критической направленности линии Крейслера, сосредоточивая свое внимание на линии Мурра. Видя (несколько упрощенно) в линии Крейслера чистую трагедию,а в линии Мурра - чистую комедию,Б.Резер приходит к выводу о том, что "перманентное смешение обеих частей в романном целом указывает на юмористическое, а не на сатирическое изображение, несмотря на то, что в линии Мурра сатира отчетливо различима". Соответственно, весь роман есть. "не сатирическое отрицание, но попытка юмористического утверждения действительности в ее "несуразности" СUnff&t-ùirvîtheît) "41 #
Таким образом, правильно (а в ряде мест работы - и очень тонко) показывая значительное место иронико-юмористического подхода к действительности в творчестве Гофмана, Б.Ре з ер-явно недооценивает роль сатирического осмеяния в нем,постоянно сбиваясь на устоявшееся мнение о Гофмане как о юмористе. В результате подвергается сомнению сам факт существования романтической сатиры. По мнению Б.Резер многие сатирические произведения романтиков ".обнарукивают "позитивную" форму
42 разочарования,которая характеризует истинных юмористов
Исследовательница не замечает диалектического характера соотношения сатиры,иронии и юмора в произведениях немецкого романтика.Рассматривая сатиру и юмор отдельно друг от друга, а если сравнивая их,то только по противоположности, отказавшись от выявления очевидной, хотя и неоднозначной связи сатиры с романтической иронией, Б.Резер варанее лишила себя возможности выявить специфи ку гофмановской сатиры и-шире - всей стихии комического в произведениях этого писателя.
Марксистское литературоведение естественно ставит своей задачей разработку проблемы эстетического освоения действительности в творчестве Гофмана. Сжатый очерк Х.Майера, предпосланный шеститомному собранию сочинений писателя, создает в целом верную картину этого творчества. Ученый,в частности, останавливает свое внимание и на проблеме бытия сатиры в произведениях немецкого романтика, отмечая ее ".двойную направленность: как против придворного, так и буржуазного слабоумия и высокомерия."143 Однако, думается, Х.Майер неправ,говоря об отсутствии связи между иронией Гофмана и романтической иронией его предшественников - Фр.Шлегеля, Л.Тика, К.Брентано. Сатира Гофмана несколько упрощенно рассматривается Х.Майером лишь как одна из реалистических черт творчества Гофмана без выявления ее романтической специфики.
Литературовед из ГДР Х.-Г»Вернер в своей монографии (первое издание - \962 г.) выступает против попыток Х»Майера фактически вывести творчество Гофмана за пределы романтического метода и стремится рассматривать его литературное наследие в тесной связи с эстетикой романтизма. Это касается как творчества Гофмана вообще, так и комико-критической направленности его. Х.-Г.Вернер справедливо говорит о том, что большинство произведений Гофмана нельзя считать чистой сатирой несмотря на то большое место, которое занимают в них сатириче-44 ские элементы. Вопрос о бытии сатиры в творчестве Гофмана специально не интересует немецкого ученого, и на страницах его книги: : проблема комико-критической направленности произведений писателя периодически возникает лишь как побочная,сопутствующая выяснению более общих проблем. Так, например, говоря о месте и роли художника и искусства в "Фантазиях в манере Калло", исследователь проводит анализ сатирических страниц "Крейслерианы"; рассматривая зависимость мировоззрения Гофмана от натурфилософии Шеллинга и Шуберта, на примере "Повелителя блох" демонстрирует полемику Гофмана-сатирика с идеями эмпирико-рационалистического естествознания. Х*-Г.Вернер останавливается также на комико-критической направленности сказок и романа "Житейские воззрения кота Мурра". Но многочисленные наблюдения и замечания, в большинстве-.своем очень верные и тонкие, и здесь остаются разрозненными, часто выступают как "комментарии по поводу", а более, или менее цельная картина гофмановской стихии комического в книге Х.-Г.Вернера отсутствует.
Сатирическая направленность гофмановского творчества почти никогда не подвергалась сомнению в русском и советском литературоведении. Уже в первой отечественной монографии, посвященной творчеству Гофмана, ее автор, С.С.Игнатов, подчеркивал, что "филистерство", бывшее в эпоху Гофмана весьма распространенным в Германии, повысившееся в чинном чиновничьем Берлине до "гармонической пошлости", было в сущности единственным объектом его сатиры. Филистерство царило в науке, в литературе, в жизни, к нему же восходил и бюрократизм, В том или в ином виде оно проникало все отношения и потому очень широко и ярко отразилось в творчестве Гофмана. С.С.Игнатов отмечает сказочный, гротескно-фантастический характер госплановской сатиры на примерах "Золотого горшка", "Крошки Цахе-са" и "Выбора невесты"^.
В 20-е - 30-е годы все ученые, писавшие о Гофмане, обращали внимание на критическую направленность гофмановского комизма. Особенно следует отметить ранние работы Н.Я.Берковско
46 го и И.В.Миримского, в которых содержались мысли, оказавшиеся весьма продуктивными для дальнейшего изучения наследия писателя.
Позднее, уже после преодоления сомнительных взглядов на Гофмана как на "реакционного" романтика, продолжается все расширяющееся изучение творчества писателя. Выделяются его исторически прогрессивные черты, включая сюда и комико-критиче
47 скую направленность многих произведений. Работы И.В.Миримского этого периода определяют основные черты гофмановского творчества, вскрывают связи его с социальной действительностью эпохи. И.В.Миримский отмечает и неоднозначность, противоречивость атой связи: "Окружающее Гофмана хроническое убожество, придавленность, гнетущая атмосфера филистерства рождали в нем презрение, ненависть к действительности, сообщавшие его сатирическому перу остроумие и язвительность; в то же время страх перед действительностью и отвращение к ней заставляли его искать спасения от мерзостей жизни в романтических мечтах, в фантазии, в искусстве, которое казалось ему не только единственно благородной, но и единственно суверенной областью до человеческого духа". Из противоречия меззду убогой действительностью и поэтической мечтой рождается гофмановская ирония. Она отлична от иронии ранних романтиков: "В творчестве Гофмана ирония превращается в сатиру, обращенную вовне и тем самым приобретающую большую мощь"^. Эта, чрезвычайно важная мысль, к сожалению, не нашла развернутого доказательства в работах исследователя, хотя социальная направленность смеха Гофмана не вызывает у него сомнений. Смех Гофмана отличается удивительной подвижностью своих форм, он колеблется от добродушного юмора, от улыбки сострадания до разрушительной гневной сатиры, от беззлобного шарма до чудовищно уродливого гротеска. В своих сатирических проявлениях он выполняет социальную функцию.
В середине 60-х годов появляются перше работы, посвященные специальному изучению сатирических тенденций творчества Гофмана. Н.М.Берновская справедливо говорит о том, что "неудовлетворенность существующим миропорядком никогда не оставляла Гофманаг Всякая попытка осмыслить мир принимала поэтому неизбежно критический характер" . Автор убедительно показывает противоположность романтического энтузиаста его ме-щанско-филистерскому окружению, выявляет истоки сатирического изображения общества, место и функцию романтической иронии в творчестве Гофмана. Одна из основных особенностей последней, по мысли Н.М.Берновской, - постоянное присутствие в ней трагического и комического элемента.
С конца 60-х годов в работах советских ученых виден более углубленный и детализированный подход к различным сторонам творчества Гофмана. В статьях и диссертациях Д.Л.Чавчанидзе, Н.М.Берновской, Л.В.Славгородскойи рассматриваются аанровые и стилевые С в широком смысле) особенности произведений немецкого романтика, специфика его мировоззрения. Специально не интересуясь проблемой комического, эти исследователи и не забывают о ней, учитывая ее при анализе конкретных произведений писателя. Вопросам искусства в творчестве Гофмана посвящаются работы Ф.П.Федорова, однако проблема сатиры мало звни-мает исследователя.
Вопрос о комическом начале творчества Гофмана в последние годы все чаще привлекает внимание советских исследователей. В разных работах 70-х годов мы встречаемся с многочисленными отдельными замечаниями о природе гофмановской иронии, юмора и сатиры. Обращает на себя внимание характер гофмановского гротеска, сосуществование комического и трагического в романтической иронии писателя. Однако вопрос о комическом у Гофмана во всей совокупности его проявлений нигде не становится предметом специального рассмотрения, хотя само обилие замечаний, в той или иной мере касающихся проблемы комического в творчестве писателя, свидетельствует о том, что назрела необходимость более подробно и углубленно исследовать эту проблему. Тем более, что однозначного решения в нашей науке она пока не получила.
В известной книге "Романтизм в Германии"1 Н»Я.Берковский подчеркивает идею обличительной сущности романтизма: "Романтические возможности, обращенные к бытовому миру, становятся обвинительным актом и более - судом, и еще далее - приговором.
Он отмечает тему двойника и автомата у Гофмана как выражение отрицания художником механического, обезличивающего характера современной жизни, заявляя, что "в произведениях Гофмана романтический гротеск достиг.наибольшей явственности и высшего развития внутренних отношений, у предшественников предъсд являемых все только намеками"0 . Но вопроса о романтической сатире Гофмана Н.Я.Берковский в этой работе почти не касается.
Значительно больше места этой проблеме уделяется в книге А.Ф.Шамрая "Э.Т.А.Гофман" хотя вопрос о соотношении разных видов комического у Гофмана не выдвигается украинским ученым на передний план исследования. Гофмановскую сатиру он считает органической частью юмора. "Категория комического в представлении Гофмана,- пишет А.Ф.Шамрай, - становится существеннейшим фактором творческого процесса. С.) Рассматривая юмористическое как определенную универсальную черту творческого сознания, Гофман придерживается того же взгляда, что и Шлегель (А.-В.Шлетель, автор "Чтений о драматической литературе и в искусстве" - A.C.), а именно: истинный юмор проявляется не в разоблачении отдельных явлений жизни с назидательной целью, а в обнажении коренных противоречий существования. Это определяет и его отношение к бытовой сатире. Вот почему и сатира как жанр, ставящий перед собой определенные дидактические задачи, была до определенной степени чужда Гофману. Однако было бы большой ошибкой считать, что в сво£й художественной практике Гофман целиком отказался от сатиры. Напротив, существеннейшей и ндиболее ценной С в познавательном смысле) чертой его произведений становится сатирическая направленность образов, созданных в сказках. Это противоречие объясняется просто*
Сатира в его произведениях - это органическая часть юмористического видения мира. Юмористически осмысляя "мировой порядок", являющийся на самом деле отражением прусской действительности, Гофман раскрывает "нелепости жизни" в разных областях исторического человеческого существования - в духовном опыте человека, в его семейных, бытовых и общественных отношениях. Поэтому, не ставя перед собой специальной задачи сатирического разоблачения, Гофман в своей художественной практике постоянно касается самых актуальных социальных проб
55 лем современного ему общества" .
Принципиальные замечания относительно комического у Гофмана сделаны А.С.Дмитриевым, автором ряда исследований по теории и истории немецкого романтизма. Ученого интересует в первую очередь отношение Гофмана к эстетической практике ранних немецких романтиков. Он показывает связь гофмановской иронии с учением, выдвинутым представителями иенской школы, и то новое, чем обогатилось романтическое движение на завершающем этапе его развития. "Одним из существеннейших компонентов поэтики Гофмана, как и ранних романтиков,- пишет А.С.Дмитриев, - является ирония. Причем в гофмановской иронии как в творческом приеме, в основе которого лежит определенная философско-эстетическая, мировоззренческая позиция, мы можем четко различить две основные фунздии. В одной из них он выступает как прямой последователь иенцев. Речь идет о тех его произведениях, в которых решаются чисто эстетические проблемы и где роль романтической иронии близка той, какую она выполняет у иенских романтиков. Романтическая ирония в этих произведениях Гофмана получает сатирическое звучание,но сатира эта не имеет социальной, общественной направленности"*^ Вместе с тем, как справедливо утверждает исследователь, в творчестве Гофмана присутствует ". другая и более существенная функция его иронии. Если у иенцев ирония как выражение универсального отношения к миру становилась одновременно и выражением скептицизма и отказа от разрешения противоречий действительности, то Гофман насыщает иронию трагическим звучанием, у него она носит в себе сочетание трагического и комического. (.) Сатирическое начало иронии Гофмана в этой функции имеет конкретный социальный адрес, значительное общественное содержание, а потому эта функция романтической иронии позволяет ему, писателю-романтику, отразить и некоторые типичные явления действительности ("Золотой горшок" , "Крошка Цахес", "Житейские воззрения кота Мурра" - как произведения, наиболее характерно выражающие эту функцию иронии Гофмана)58. Наличие стихии комического у Гофмана отмечается и в ряде других новейших исследований. На зависимость сатиры писателя от социальной практики его времени указывает И.Ф.Бэлза: "Гофман был первым немецким романтиком, обрушившимся на уродство социального строя." При этом ученый отмечает неразрывную связь обличительных тенденций в творчестве писателя с идеалом высокой духовности: "Социальному гнету действительности, окружавшей Гофмана, он противопоставлял прекрасный мир высоких человеческих чувств и образов искусства."5^ Аналогична мысль Ф.П.Федорова о разоблачительном характере гофмановского смеха: "у Гофмана господствует комика, юмор, а юмор не только рождает, но и отрицает, юмор не только строит мир "общей большой радости", но и предполагает реальность,являющуюся предметом смеха, опровержения"®^.
Несмотря на обилие упоминаний о присутствии сатиры в творчестве Гофмана, до сих пор не существует сколько-нибудь развернутого определения характера этой сатиры и попытки ограничить ее от других видов комического, тоже наличествующих в творческом наследии писателя. Вопрос, по-видимому, сводится к тому, в какой мере соединимы понятия "романтизм" и "сатира". На этот счет до сих пор не существует единого мнения. "Сатирическая линия европейского романтизма,- пишет И.Г.Неу-покоева, - изучена вообще значительно слабее, чем другие сферы его действия. Между тем сатирическое начало. играло в романтическом искусстве весьма ванную роль».
В какой мере это сатирическое начало связано с самим романтическим методом, может ли оно быть имманентно присущим ему, или же это начало внеположеное, разрушающее сами основы метода? Ведь существует мнение о сатире, как о "своеобразной о разноводности реализма"0 .
Еще Гегель связывал бытие сатиры с переходной стадией от классического к романтическому искусству, когда духовное начало (по Гегелю - "субъективность") ". стремится к господству над несоответствующим ей более обликом и знешней реальностью". "Формой искусства, которую принимает образ обнаруживающейся противоположности мезду конечной субъективностью и выродившимся внешним миром, является сатира", - пишет Гегель63,
Для Гегеля несомненна связь сатиры с объективной реаль -ностыо. Нескрываемое присутствие"субъективного, авторского начала объединяет юмор и сатиру. Но там, где юмор или ирония склонны к универсальной насмешке и к релятивации ценностных характеристик объекта, сатира однозначна в своих оценках. Однако Гегель считает, что сатира не имеет перспектив развития и лежит вне подлинной поэзиеР^.
В советских исследованиях по теории комического подчеркиваются два основных момента. В основе комического советские литературоведы видят диалектическую противоречивость предметов и явлений, то есть взаимодействие в них противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении,контраст сути и формы, цели и средства, т.е. такое противоречие, благодаря которому явление изнутри уничтожает себя. С атой же идеей связано и характерное для советской эстетики и литературоведения определение объективного характера комического65.
Вопрос о видах комического как модификациях этой эстетической категории продуктивно решается в трудах А.3 .Вул.иса,ДЛ. Николаева, Г.Н.Поспелова, В.Я.Проппа и др,^ Присоединяясь к их мнению, мы рассматриваем сатиру как последовательное, жесткое и полное неприятие осмеиваемых явлений, а юмор - как беззлобное, принимающее и "поощряющее" осмеяние. Ирония,соответственно, проявляет себя в определенном смысле как универсальный вид комического: она колеблется мевду сатирой и юмором, с ними не смешиваясь. От первой она отличается некоторой двойственностью оценки объекта, а от юмора - большей жесткостью и остротой насмешки. У романтиков ирония оказывается двунаправленной: в поле комического частично попадает и сам иронизирующий субъект, который признает определенную недостаточность своей позиции. В иронии отрицание может граничить с утверждением, поскольку ирония есть выраженное в форме комического отношение "приятия-неприятия" объекта.
Европейский романтизм возникал в переходную эпоху, когда старые формы жизни и сознания теряли свою устойчивость.Именно в такие времена чаще всего складывается ироническое мироотно-шение, ирония проявляет себя как мировоззренческий и художественный принцип.
Романтическая ирония непосредственно связана с неудовлетворенностью художника окружающим миром; ей, в частности,свойственно субъективное "преодоление" действительности смехом, ироническое принижение последней. Романтическая ирония была готова в любой момент "снять" то или иное противоречие действительности, перенеся его в сферу сознания художника-творца. Вместе с тем, в возникающей атмосфере комического складывались благоприятные условия для появления сатиры в произведениях романтиков. Не подлежащие ироническому снятию отрицательные явления современности с неизбежностью требовали по отношению к себе сугубо сатирической оценки.
Сатира как вид эстетического отношения к действительности отнодь не противопоказана романтическому методу,романтическому мироощущению: и то, и другое возникает из сознания острейшего несоответствия идеала действительности. Однако сатира в произведениях писателей-романтиков бытует в весьма своеобразных формах, соединяясь зачастую с такими видами комического, как юмор и ирония. Н.Я.Берковский отмечал, что на последнем атапе своего развития "как в утверждении, так и в отрицании романтизм сохранил себя. Романтическая критика, романтический юмор и сатира абсолютны по своему характеру, превращают действительность в негативную величину, в-.негативное собрание негативных величин. Как своему идеалу романтики придавали абсолютное значение, так и анти-идезл, современный мир как он есть, превращался у них в абсолют с отрицательным знаком"^7. Сложность постановки вопроса о сатире в искусстве романтизма состоит в том, что в известной мере универсальный характер отрицания действительности в ее "наличном" варианте приводил то к господству иронии, то выливался в прямую сатиру.
При этом наличие сатиры с присущей ей однозначностью сме-хового отрицания в определенной степени вступает в противоречие с основополагающим принципом романтической иронии, смысл которой заключается в универсальном "преодолении" несовершенной действительности. Тем самым наличие сатиры в романтическом произведении в определенной степени грозит разрушением зыбкого единства романтического мироотношения. Сатира здесь вступает в очень непростые отношения с другими видами комического - юмором и иронией, чрезвычайно редко существует отдельно от них, но не ассимилируется ими. Особенно явственно подобное сочетание сатиры с другими видами комического выступает в творчестве Гофмана. Сложность взаимопереходов одного в другое, внутренняя противоречивость этих отношений, столь характерные для этого писателя порой, как известно, заставляли исследователей вообще отлучать его от сатирической линии литературы.
При всей сложности вопроса, бытие сатиры в творчестве Гофмана едва ли может вызывать серьезные сомнения. "Гофман был выдающимся мастером сатиры и как художник-график, и как писатель", - пишет С.В.Тураев. "Нередко в нашей литературоведении,- замечает он, - именно мастерство обличения конкретного социального зла вызывало соблазн представить Гофмана реалистом. Такая тенденция, как правило, была связана с недооценкой возможностей самого романтического метода, в частности возможностей романтической сатиры"^8.
Исходя из всего сказанного, можно определить задачи предлагаемой работы следующим образом:
1» Выявление специфики комического в творчестве Гофмана, идейной направленности комико-критического начала и связи его с общественным сознанием и социальным бытием эпохи.
2. Определение взаимодействия сатиры Гофмана с другими видами комического на разных этапах творческого развития писателя.
3. Рассмотрение вопроса о специфических особенностях романтической сатиры и ее связи с художественным методом на материале творчества Гофмана.
В диссертации рассматриваются те произведения писателя, в которых с большей или с меньшей отчетливостью видны сатирические тенденции. Соответственно, с учетом жанровой специфики этих произведений, вся работа делится на три главы.
В первой главе "Становление сатирических тенденций в творчестве Э.Т.А.Гофмана" выявляются общие принципы гпфмановской сатиры в произведениях писателя, относящихся к первому периоду его творчества (1809-1815 гг.). Материалом для анализа здесь служит романтический цикл "Фантазии в манере Калло" и некоторые примыкающие к нему произведения из "Ночных рассказов" и "Серапионовых братьев".
Вторая глава "Особенности сатирической критики действительности в новеллах и сказках Э.Т.А.Гофмана" посвящена рассмотрению эволюции гофмановской сатиры в произведениях малых эпических жанров, созданных в 1815-1822 гг.
Третья глава "Место сатиры в романе Э.Т.А.Гофмана "Житейские возврения кота Мурра" посвящена анализу комической стихии романа и выявлению роли сатиры в нем.
Заключение содержит основные выводы исследования проблемы.
Заключение научной работыдиссертация на тему "Особенности сатиры и проблема комического в творчестве Э.Т.А. Гофмана"
ЗАКЛЮЧЕН И Е
Творчество Гофмана дает богатый материал, для исследования особенностей и возможностей сатиры в романтическом искусстве. Если в творчестве просветителей Си еще ранее - классицистов) сатира базировалась на критерии разумного: осмеянию подвергалось то, что не подлежало рациональному объяснению, то в искусство романтиков критика смехом направлялась в первую очередь нз объекты, разрушающие гармонию универсума, и в основном носила эстетический характер. "Эстетический идеал романтиков изначально мыслился как всеобъемлющий, он распространялся на все состояние и все явления мира. Поэтому несоответствие ему представлялось как противоречие высокой норме, как безобразное, подлежащее осмеянию. Критика смехом при этом с неизбежностью принимала эстетический характер.
Поскольку высшим проявлением прекрасного мыслился дух, то главным объектом осмеяния становился его антипод - бездуховность, завершенное проявление которой романтики видели в "филистерстве.
Отрицание рациональных способов познания мира приводило многих романтиков к ощущению иррациональной сложности многих жизненных явлений, к в этом случае они облекались в устрашающе гротескные формы, не подлежащие логической расшифровке.Комическое соседствовало со страшным.
Идея несоответствия действительности идеалу по мере развития романтической литературы все больше укреплялась на позиции неприятия современных общественных нравов и современного социального устройства. Предметом комической интерпретации становились социальные институты эпохи. Объекты конического конкретизировались, а их оценка (при всем господстве кронкческого мировидения),все более и более приобретала однозначный характер.
Все эти процессы отчетливо видны в творчестве Гофмана,где комическое представлено широко и многообразно. Оно включает в себя мягкий юмор и трагикомический гротеск, амбиваленткую иронию и обличительную сатиру. Различные эстетические проявления и модификации комического в обширном наследии немецкого романтика неразрывно связаны с общественным сознанием и социальным бытием эпохи: их эволюция и взаимодействие такие находятся в русле основных эстетических исканий первой трети XIX века.
Изначально разделяя со всеми романтиками критическое отношение к филистерству, которое рассматривается как выражение духовной ограниченности, погруженности в быт, убогой усред-ненности, разрушающей человеческую индивидуальность, эстетической слепоты и глухоты, Гофман вдет дальше своих предшественников Си многих современников), осмеивая в своих произведениях разные стороны действительности: от быта и житейского поведения до психологии личности и состояния социальных институтов.
Уже в ранних произведениях Гофмана смех выступает не только (даже и не столько) как универсальное средство иронического преодоления низкой действительности и ее противоречий,но и как острое оружие сатирика, активно нападающего на несовершенства и пороки современного общества. Вместе с тем романтический характер сатиры, присутствующей в произведениях писателя, созданных в первом периоде его творчества, определяется как кругом разрабатываемых проблем, так и конкретными способами их художественного решения.
Творческий метод Гофмана гротесков и фантастичен; вопрос о месте искусства и художника в современном мире является стержневым для многих произведений этого писателя. Художник Гофмана проявляет себя в столкновении с этим миром, его искусство противостоит убогой реальности. Эта исконно романтическая коллизия, предельно обостренная в "Крейслерианах", содержала в себе богатые возможности критического освоения действите льности.
Вместе с тем специфическая ограниченность проблематики ранних произведений писателя сужала поле сатирической критики, в известной мере обусловливая ее односторонность. В "Фантазиях в манере Калло" в абсолютном большинстве случаев предметом сатиры становится бездуховность филистера, которая пока определяется главным образом только чуждостью искусству. Поэтому ранняя сатира Гофмана имеет преимущественно эстетический и только отчасти этический характер.
По мере развития творчества писателя эстетическая критика действительности начинает соседствовать у него с критикой этической и социальной. Предметом сатирического анализа становится не просто недостаточность человеческого бытия вообще (такая универсальная постановка вопроса свойственна всем романтикам), а конкретно-историческая форма его в немецком национальном варианте. Происходит постепенное углубление и конкретизация критического восприятия действительности. Сам феномен филистерства рассматривается как часть современного мира.
Гофман видит проявления филистерства почти во всех областях частной и общественной жизни своего времени. Многие феномены и институты немецкого общественного сознания становятся объектами его сатиры. Среди них - образование и наука, госудэрство и право, искусство и быт филистера.
Эволюция комического в творчестве писателя связана с углублением его понимания сути современной эпохи. Столкновение с различными проявлениями феодальной государственности с неизбежностью повлекли за собой повышение интереса к социальной проблематике, отразившееся в таких произведениях как "Крошка Цахес", "Повелитель блох", "Житейские воззрения кота Мурра".
Здесь, как и в других новеллах и сказках второго периода творчества, романтический принцип "жизни в поэзии" по-прежнему остается для Гофмана главенствующим. Но его осуществление в значительной степени корректируется конкретными фактами социального бытия, романтический идеал соотносится с конкретными проявлениями окружающей писателя действительности.
От проблем бытия художника и его искусства в мире филистерства Гофман, во втором периоде своего творчества все чаще обращается к проблемам, требующим социально-отической оценки при их сатирическом изображении. Явления общественной психологии, общественного сознания, современной политической и экономической жизни, ставшие предметом сатирического анализа, требовали от писателя нового, более рационалистичного метода их познания и изображения.
В ряде случаев, когда возникает необходимость сатирического осмеяния того или иного объекта, Гофман прибегает к свойственному всей сатирической литературе рационалистическому подходу к нему. Зачастую здесь сказываются традиции просветительской сатиры, но не только они. Показывая княжества Пафну-тия, Барсануфа или Иринея как мир неразумный и нелепый, художник рассматривает их не как частные случаи, а как проявление иррационального характера современной немецкой жизни вообще. В романтической сатире Гофмана комическое нередко соседствует со страшным, житейски достоверное - с непознаваемым.
Существенные изменения происходили и с авторским идеалом, присутствие которого в сатире обязательно. Четко сознавая тот или иной негативный феномен современный общественной жизни, сатирик уже не мог противопоставить ему чисто эстетический, в большинстве случаев не требующий аналитического подхода идеал, хотя и он остается для Гофмана немаловажным. Соответственно не категории прекрасного и возвышенного,а категории добра и правды, все чаще и чаще ложатся в основу идеала писателя. В итоге эстетический идеал постепенно уступает свое место идеалу этическому, социальному, хотя и он в целом не выходит за рамки романтического мировоззрения.
Характернейшей чертой сатиры Гофмана является то, что она неизменно выступает вместе с другими видами.-:кошческого -юмором и иронией. Порожденная неприятием окружающей действительности, ирония романтиков создз вала в их произведениях условия, благоприятные для возникновения сатиры,но вместе с тем делала романтическую сатиру обобщенной, непоследовательной, вносила в нее принцип относительности, была готова в любой момент "снять" жесткую сатирическую оценку того или иного явления. Гофмановская ирония лишь в малой степени была характерным для романтиков проявлением субъективной игры художнического воображения, она была в первую очередь призвана заострить и выделить диалектическую неоднозначность изображаемых явлений. К в то же время, распространяясь на многие феномены реальности, которые требовали к себе негативной оценки, она приобретала сатирически-определенную однозначность.В результате взаимодействие романтической иронии и сатиры создало предпосылки для эволюции, в известной мере ведущей к выходу за пределы романтической системы. Комическому осмыслению подвергаются не только заведомо смешные и уродливые стороны жизни, но и та односторонне-высокая позиция романтического энтузизста, которая составляла самую суть положительной программы романтизма. Иронический комизм в изображении носителей высокой духовности (Крет/;слер, Бальтазар, Перегринус. Тис) не предполагал их полного отрицания, но указывал на определенную недостаточность их позиции. Тем самым создавались предпосылки для объективизации романтических идеалов, Эта широта распространения иронии обусловлю ала в конечном итоге и широту сатирического охвата действительности, а иронико-юмо-ристическое (т.ес наличием положительного элемента) отношение к носителям чистой духовности, воспарившим в запредельные высоты, определяло и подчеркивало всю полноту неприятия Гофманом окружающего мира и острое сознание его отвратительности.
Б поздних произведения}: писателя подвергается осмеянию не просто чуядость филистера прекрасному и возвышенному. Издеваясь над "новейшей поэзией" в; ¡рассказе "Эстетическое чайное общество", показывая "поэтическое на Балдение" Амандуса фон Небельштерна С"Королевская невеста")»пародируя в писаниях Мурра сам романтический стиль, Гофман демонстрирует не только лживость эстетических и этических устремлений обывателя,но к вскрывает опасную возможность взаимного приспособления филистерства и романтической фразы. Пародирование романтической системы мышления становится знаком "диалектической смены школ" С Ю.Н.Тынянов).
Соответственно художественно продуктивными средствами сатирического изображения действительности в творчестве Гофмана служат романтический гротеск, окарикатуривание, мотив театрального действа и примитива в его нескольких вариантах,а также такие средства достижения комического эффекта, как пародия и травестирование.
В результате эстетическая, этическая, социальная и политическая сатира Гофмана, присутствующая в последних крупных произведениях писателя С"Повелитель блох", "Житейские воззрения кота Мурра"), восходит на качественно новую ступень развития. Во многом она соответствует нормам поэтики реализма, поскольку, приближая писателя к действительности, заставляя глубже вглядываться в явления современной жизни,учила строго и по возможности объективно оценивать их.
Список научной литературыСкобелев, Андрей Владиславович, диссертация по теме "Литература народов Европы, Америки и Австралии"
1. Сочинения классиков марксизма-ленинизма
2. Маркс К. К критике гегелевской философии права. Введение. -Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. I, с. 414 429.
3. Маркс i(. Письма из "Немещсо-французского ежегодника". -Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. I, с. о71 381.
4. Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 13, с. 7 - 544.-- Энгельс Ф. Положение в Германии." Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 4, с. 208 - 248.
5. Энгельс Ф. Диалектика природы. Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., т. 20, с. 345 - 626. о- Энгельс Ф. - Засулич В.И. Письмо от 23 апреля 1885 г. -Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 36, с. 259 - 264.
6. К.Маркс и. Ф.Энгельс об искусстве. В двух томах. /Составил М.Лифшиц. М.: Искусство, 1967, т. I - 584 е., т. 2 - 602 с.
7. Ленин В.И. К характеристике экономического романтизма. -Полн. собр. соч., т. 2, с. 119 262.
8. Ленин В.И. Несчастный мир. Полн. собр. соч., т. 35, с. 382 - 383.
9. Ю. Ленин В.И. К вопросу о диалектике. Полн. собр. соч., т. £6, с. 324 - 328.
10. Ленин В.И. О литературе и искусстве. М.: Худож. лит-ра, 1957. - 687 с.1. Сочинения Э.Т.А. Гофмана
11. Hoffraann Е.Т.А. Poetische Werke in sechs Bänden. Berlin: Aufbau, 195Q«
12. Шман. Э.Т.А. Избранные произведения в трех томах. М.: ГШ, 1962.
13. Гоффман. Э.Т.А. Принцесса Бландина. Пер. с кем. С.Игнатова /проза/ и А.Оленина /стихи/. М.: Изд. Всеросс. союза поэтов, 1925. - 79 с.
14. Работы по теории и истории комического
15. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Гослитиздат, 1965. - 527с. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. 4-е изд. - М.: Сов. Россия, 1979. - 320 с.
16. Белинский В. Г. 0 русской повести и повестях г. Гоголя. -Полн. собр. соч., т. I М.: Гослитиздат, 1953, с. 259- 307.
17. Белинский В.Г. Разделение поэзии на роды и виды. Полн. собр. соч., т. 5 - М.: Гослитиздат, 1954, с. 7 - 67.
18. Блок A.A. Ирония. Собр. соч. в восьми томах. - М.-Л.: Гослитиздат, т. 5, 1962, с. 345 - 349.
19. Борев Ю.Б. Комическое или о том, как. смех казнит несовершенство мира, очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. М.: Искусство, 1970. - 269 с.
20. Бушмин A.C. Сатира Салтыкова-Щедрина. М.-Л.: Изд. АН СССР, 1959. - 644 с.25 Вулис А.З. В лаборатории смеха. М.: Худож. лит., 1966.- 144 с.26 Вулис А.З. Метаморфозы комического. М.: Искусство, 1976.- 125 с.
21. Гегель В.Ф.Г. Эстетика в 4-х томах. М.: Искусство, 1968- 1973.
22. Демурова Н.М. Эдвард Лир и английская, поэзия нонсенса. -В кн.: "Мир вверх тормашками" /Английский юмор в стихах/. На англ. языке. М. : Прогресс, 1978, с. 5 - 22.
23. Демурова Н.М. Льюис Кэррол. Очерк жизни и творчества. М.: Наука, 1979. - 200 с.
24. Дземидок Б. О комическом. М.: Прогресс, 1974, ^,224-022.
25. Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. М. : Искусство, 1981. - 448 с.
26. Жук A.A. Сатира натуральной школы. Саратов: Изд. Сарат. ун-та,. 1979. - 233 с.
27. Зольгер К.В.Ф. Эрвин. Четыре диалога о прекрасном в искусстве. М. : Искусствог 1978. - 432 с.
28. Зунделович Я. Поэтика гротеска. В кн.: Проблемы поэтики. Сб. статей /под ред. В.Я.Брюсова. - М.-Л. :ЗИФ, 1925, 66: -79.
29. Карягин A.A. Комическое. В кн.: Марксистско-ленинская эстетика /под ред. М.Ф.Овсянникова. ~ М. : Наука, 1973, с. 119- 128.
30. Лихачев Д.С., Панченко А.М. "Смеховой мир" Древней Руси. -Л.: Наука, 1976. 204 с.
31. Лосев А.Ф., Шестаков В.П. История эмтетических категорий. -М.: Искусство, 1968. 376 с.38« Лук А.Н. 0 чувстве юмора и остроумии. М.: Искусство, 1968. - 191 с.
32. Луначарский A.B. О смехе. Литературный критик, 1935, № 4, с. 3 - 18.
33. Макарян A.M. О сатире. М.: Сов. писатель, 1967. - 275 с. 41 Манн Т. Гете и Толстой. Фрагменты к проблеме гуманизма. -Собр. соч. в 10-ти томах, т. 9, - М.: Худож. лит., 1961, с. 487 - 607.
34. Манн Ю.В. О гротеске в литературе. М.: Сов. писатель, 1966.- 184 с.
35. Морозов А.А. Немецкая волшебно-сатирическая сказка. В кн.: Немецкие волшебно-сатирические сказки. - Л.: Наука, 1972,с. 149 207.
36. Нельс С. Романтическая ирония в. критике буржуазного мира /А.Блок/. Красная новь,. 1931, кн. 10 - II, с. 233 - 251.
37. Николаев Д.Н. Смех оружие сатиры. - М.: Искусство, 1962.- 223 с.
38. Николаев Д.Н. Сатира Щедрина и реалистический гротеск. М.: Худож. лит., 1977. - 358 с.
39. Пропп В.Я. Проблемы комизма и смеха. М.: Искусство, 1976.- 183 с.
40. Салтыков-Щедрин М.Е. Литературная критика. М.: Современник, 1982. - 349 с.
41. Тройская М.Л. Немецкая сатира эпохи Просвещения. -Л.: Изд--во Ленинградок, ун-та, 1962. 275 с.
42. Тройская М.Л. Немецкий сентиментально-юмористический роман эпохи Просвещения. Л.: Изд. Ленинградок, ун-та, 1965.-248с Тынянов, Ю.Н. Поэтика. Истории литературы. Кино. - М.: Наука, 1977. - 574 с.
43. Чернышевский Н.Г. Эстетика. М.: Гослитиздат, 1958. - 373 с,
44. Шестаков В.П. Эстетические категории. Опыт систематическогои исторического исследования. М.: Искусство, 1983. - 358 с.
45. Шлегель Фр. Эстетика. Философия. Критика. В 2-х томах. -М.: Искусство, 1983. 479; 448 с.
46. Эвентов И. Остроумие схватывает противоречие /о некоторых вопросах теории сатиры/. Вопросы, литературы, 1973, № 6, с. 116 - 134.
47. Эльсберг Я.Е. Вопросы.теории сатиры. М.: Сов. писатель, 1957. - 428 с.
48. Эльяшевич А.П. Лиризм. Экспрессия. Гротеск. Л.: Худож. лит., 1975. - 360 с.
50. Baudelaire Ch. Oeuvres complbtes. Paris, 1923, v. 2. - 562 p.
51. Brurnmack J. Satirische Dichtung: Studien zu Fr.Schlegel, Tieck, Jean Paul und Heine. München, 1979. - 239 S.
52. Brunster G. Kunst des Humors Humor der Kunst. Beitrag zu einer fröhlichen Wissenschaft. - Halle-Leipzig: Mitteldeutscher Verlag, 1980«- 102 S.
53. Szondi P. Fr.Schlegel und die romantische Ironie. Mit einem Anhang über Tieck. Euphorion 48, 1954, S. 397 - 411.
54. Работы по теории и истории романтизма
55. Аникин Г.В. Система жанров в американском романтизме. -В кн.: Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе. Вып. 5. /МШИ им. В.И.Ленина/, 1980, с. 3 27.
56. Аникст A.A. Теория драмы на Западе в. первой половине XIX века. Эпоха романтизма. М.: Наука, 1980. - 343 с.
57. Белинский В Л1. Сочинения Александра Пушкина. Статья вторая.- Полн. собр. соч. f т. 7, М.: АН СССР, 1955, с. 132- 222.
58. Белинский В. Г. Русская литература в, 1842 году. Полн. собр. соч.г т. 6, - М.: АН СССР, с. 512 - 546.
59. Белинский В.Г. Взгляд на русскую литературу 1847 года. -Полн. собр. соч., т. 10, М.: АН СССР, Г956, с. 278 - 359.
60. Берковский Н.Я. Эстетические позиции немецкого романтизма.- В кн.: Литературная теория немецкого романтизма. Л.: Худож. лит., 1934, с. 3 - 119,
61. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии. Л.: Худож. лит., 1973. - 567 с.
62. Блок A.A. О романтизме. Собр. соч. в восьми томах, т. 6, М.-Л.: Худож. лит., 1962, с. 359 - 371.
63. Боброва М.Н. Романтизм в американской литературе XIX века.- М.: Высш.школа, 1972. 286 с.
64. Ботникова А.Б. У истоков жанра немецкой романтической сказки /В.-Г.Вакенродер. "Удивительная.восточная.сказка о нагом святом"/. В кн.: Поэтика литературы.и фольклора. -Воронеж: Изд. Воронежск. ун-та, 1980, с. 3-10.
65. Ботникова А.Б. 0 жанровой специфике немецкой романтической сказки. В кн.: Взаимодействие жанра и метода в зарубежной литературе ХУШ - XX веков. - Воронеж: Изд. Воронежск. ун-та, 1982, с. 3 - 14.
66. Ванслов В.В. Эстетика романтизма. М.: Искусство, 1966.- 403 с.
67. Габитова P.M. Философия немецкого романтизма. М.: Наука, 1978. - 288 з.
68. Гаджиев A.A. Романтизм и реализм. Теория литературно-художественных типов творчества. Баку: Элм, 1972. - 347 с.
69. Гайм Р. Романтическая школа. Вклад в историю немецкого ума.- М.: 1891. 774 с.
70. Гейне Г. Романтическая школа. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 6, - Л.: Худож. лит., 1958, с. 142 - 277. 100. Вшзбург Л.Я. 0 лирике. - М.-Л.: Сов. писатель, 1964.- 381с Дейч А.И. Судьбы поэтов. Гельдерлин. Клейст. Гейне. - М.: Худож. лит., 1974. - 575 с.
71. Демченко В.Д. Немецкая романтическая новелла первой четверти XIX века. Днепропетровск: Изд. Днепропетровск, ун-та, 1975. - 58 с.
72. Динамов С.С. Творчество Эдгара По. В кн.: По Э. Иббран-ные рассказы. - М.: Худож. лит., 1935, с. 5 - 51.
73. Дмитриев A.B. Генрих Гейне. Критико-биографический очерк. М.: Учпедгиз, 1957. - 112 с.
74. Дмитриев A.C. Романтизм и Просвещение борьба или взаимодействие? - Вопросы литературы, 1972, № 10, с. 117 - 130.
75. Дмитриев. A.C. Ранний Гейне и иенский романтизм. Вестник Московского университета, 1974, № 4, с. 4 - 14. Дмитриев A.C. Романтическая эстетика А.-В.Шлегеля. - М.: Изд. МГУ, 1974. - 120 с.
76. Дмитриев A.C. Проблемы иенского романтизма. М.: Изд. МГУ 1975. - 264 с.
77. Дмитриев A.C. В.-Г.Вакенродер и ранние немецкие романтики.- В кн.: Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве. М.: Искусство, 1977, с. 9 - 24.
78. Дмитриев A.C. Предисловие. В кн.: Избранная проза немецких романтиков. - МЛ Худож. лит., 1979, т. I, с. 3 - 30.
79. Дмитриев A.C. Теория западноевропейского романтизма. В кн.: Литературные манифесты западноевропейских романтиков.- М.: Изд. МГУ, 1980, с. 5 43.
80. Дьяконова Н.Я. Английский романтизм. Проблемы эстетики.- М.: Наука, 1978. 208 с.
81. ИЗ. Дьяконова Н.Я. Чарльз Лэм и Элия. В кн.: Лэм Ч. Очерки Элии. - Л.: Наука, 1979, с. 181 - 208.
82. Европейский романтизм. М.: Наука, 1973. - 511 с.
83. Жирмунский В.М. Немецкий романтизм и современная мистика.- СПб., 1914. 208 с.
84. Жирмунский В.М. Религиозное отречение в истории романтизма. Материалы для характеристики К.Брентано и гейдельбергских романтиков. М.: Сахаров, 1919.
85. Жирмунский В.М. Очерки по истории классической немецкой литературы. Л.: Худож. лит., 1972. - 495 с.
86. Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Пушкин и западные литературы. Л.: Наука, 1978. - 423 с.
87. Жирмунский В.М. Из истории западноевропейских литератур.- Л.: Наука, 1981. 303 с.
88. История зарубежной литературы XIX в. /М.Е.Елизарова, Б.И.
89. Колесников, С.П.Гиждеу, Н.П.Михальская/. Изд. 4-е. М.: Просвещение, 1972. - 623 с.
90. История зарубежной литературы XIX века. /Под ред. Я.Н.За-сурского и С.В.Тураева. М.: Просвещение, 1982. - 320 с.
91. История зарубежной литературы XIX века. Часть первая. /Под ред. проф. А.С.Дмитриева. ~ М.: Изд. МГУ, 1979. -572с.
92. Искусство романтической эпохи. Сборник статей. /Под ред. И.Е.Даниловой. М.: Искусство, 1969. - 169 с.
93. Карельский A.B. 0 творчестве Генриха фон Клейста /1777 -1811/. В кн.: Клейст Г. Избранное. - М.: Худож. лит., 1977, с. 5 - 39.
94. Карельский A.B. Повесть романтической души. В кн.: Немецкая романтическая повесть /на нем. языке/. - М.: Прогресс, 1977, с. 3 - 21.
95. К истории русского романтизма. М.: Наука, 1973. - 551 с.
96. Коган П. С. Романтизм и реализм в европейской литературе XIX века. М.: Девятое января, 1923. - 112 с.
97. Кондольекая Т.В. Переосмысление принципов романтического романа в "Графине Долорес" Ахима фон Арнима. В кн.: Проблемы языка и стиля в литературе. /Волгоградск. пед. ин-т им. А.С.Серафимовича/. - Волгоград, 1978, с. 36 - 48.
98. Кулешов В.И. Литературные связи России и Западной Европыв XIX в. /первая половина/. Изд 2-е. М.: Изд. МГУ, 1977,- 350 с.
99. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. /Под ред. А.С.Дмитриева. М.: Изд. МГУ, 1980. - 638 с.
101. Манн Ю.В. Поэтика, русского романтизма. М.: Наука, 1976.- 375 с.
102. Неизученные страницы европейского романтизма. М.: Наука,1975. 351 с.
103. Николюкин А.Н. Американский романтизм и современность. -М.: Наука * 1968. 411 с.
104. Обломиевский Д.Д. Французский романтизм. Очерки. М.: Худож. лит., 1947. - 356 с.
105. Проблемы романтизма. Сборник статей. Вып. I. М.: Искусство, 1967. - 360 с.
106. Проблемы романтизма. Сборник статей. Вып. 2. М.: Искусство, 1971. - 304 с.
107. Реизов Б.Г. Между классицизмом и романтизмом. Спор о драме в период первой Империи. Л.: Изд. ЛГУ, 1962. - 255 с.
108. Реизов Б.Г. Из истории европейских литератур. Л.: Изд. ЛГУ, 1970. - 373 с.
109. Рейман П. Основные течения в немецкой литературе 1750 -1848./Под ред. и с предисл. А.С.Дмитриева. М.: Иностр. лит., 1959. - 524 с.
110. Романтизм /теория, история, критика/. Сб. статей /Под ред. Л.И.Савельевой. Казань: Изд. Казанок, ун-та, 1976.- 184 с
111. Романтизм в художественной литературе. Сб. статей. /Под ред. Н.А.Гуляева. Казань: Изд. Казанск. ун-та, 1972. - 179 с.
112. Русский романтизм. /Под ред. проф. Н.А.1Уляева. М.: Высшая школа, 1974. - 360 с.
113. Русский романтизм. Л.: Наука, 1978. - 286 с.
114. Храпченко М.Б. Творческая индивидуальность писателя и развитие литературы. М.: Сов. писатель, 1970. - 392 с.
115. Храпченко М.Б. О прогрессе в литературе и искусстве. В6-просы литературы, 1970, №5, с. 125 - 152.
116. Хрулев В.И. Проблема романтизма в свете ленинской теории познания. Вестник Московского университета, 1970, № 4, Филология, с. 16-28.
117. Benz R. Märchen-Dichtungen der Romantiker. Mit einer Vorgeschichte.- Gotha, 1908.
118. Die deutsche Romantik. /Hrsg. von M.Steffen. Göttingen, 1967. -224 S.
119. Die Europäische Romantik. Mit Beiträgen von E.Behler, H.Fauteck, Cl.Heselhaus u.a. Frankfurt a.M.: Athenäum, 1972. - S67 S.151« Heinrich G. Vorwort. In: Athenäum. Auswahl. Leipzig: Philipp Reclam, 1978, S. 5 - 67.
120. Hillmann H. Bildlichkeit der deutschen Romantik. Frankfurt a.M., 1971. - 340 S.
121. Huch R. Die Romantik. Leipzig, 1924.154« Jost W. Von Ludwig Tieck zu E.T.A.Hoffmann. Studien zur Entwicklungsgeschichte des romantischen Subjektivismus. Frankfurt a.M.: Ii.Dister-weg, 1921. - 139 S.
122. Korff H.A. Geist der Goethezeit. Leipzig, 1953, Tl. 4. - 840 S.
123. Krauss W. Das Doppelgängermotiv in der Romantik. Berlin, 1930. -130 S,
124. Merkel I. Wirklichkeit im romantischen Märchen. Colloquia Germanica. Bern. 1969, H. 2, S. 162 - 183.
125. Rapp E. Die Marionette in der deutschen Dichtung vom Sturm und Drang bis zur Romantik. Leipzig, 1924«
126. Romantik (Erläuterungen zur deutschen Literatur). Berlin: Volk und Wissen, 1967. - 668 S.
127. Schneider G. Studien zur deutschen Romantik. Leipzig, 1962. - 266 S.
128. Thalmann M. Das Märchen und die Moderne. Zum Begriff der Surrealität im Märchen der Romantik. Stuttgart (1961). - 124 S.
129. Thalmann H. Zeichensprache der Romantik. Mit 12 Strukturzeichungen.- Heidelberg, 1967. 114 S.
130. Todsen H. über die Entwicklung des romantischen Kunstmärchens. (Mitbesonderer Berücksichtigung von L.Tieck und E.T.A.Hoff mann). München, 1906. - 208 S.
131. Träger Gl. Ursprünge und Stellung der Romantik. Weimarer Beiträge, 1975, H. 2, s. 37 - 73.
132. Walzel 0. Deutsche Romantik. 2 Bde. Berlin u. Weimar: Teubner, 1918.- 116,- 144 s.
133. Исследования, посвященные творчеству Гофмана
134. Ддмони В>Г. Художественные традиции Жан-Поля Рихтера в творчестве Гофмана и Гейне. /Глава из диссертации/. В кн.: й Ленинградский государственный институт иностранных языков. Ученые записки, т. I. - Ленгиз, 1940, с. 135 -170.
135. Белинский В.Г. /Рецензия на кн.:/ Антология из Жан Поля Рихтера. СПб., в типогр. К.Жернакова, 1844, 177 стр. -Полн. собр. соч., т. 8, М., 1955", с. 229 - 242.
136. Белинский В.Г. Письмо к В.П.Боткину от 14 19 марта 1840 г. - Полн. собр. соч., т. II, - М., 1956, с. 493 - 499.
137. Бе-линвкий В.Г. Письмо к В.П.Боткину от 16 21 апреля 1840 г. - Полн. собр. соч., т.II - М., 1956, с. 507 - 515.
138. Берковский Н.Я. Э.Т.А.Гофман. В кн.: Гофман Э.Т.А. Новеллы и повести. - Л.: 1ИХЛ, 1936, с. 5 - 97.
139. Берновская Н.М. Энтузиаст и обыватель в романтической сатире Э.Т.А.Гофмана. Ученые записки МГПИ им. В.И.Ленина, .№■ 246. - М., 1967, с. 3 - 17.
140. Берновская Н.М. Немецкий романтизм и творчество Э.Т.А.Гофмана. Вестник истории мировой культуры, 196I, № 4, июль- август, с. 124 134.
141. Берновская Н.М. О романтической иронии в творчестве Э.Т.А. Гофмана. Автореф. дисс. на соиск. учен, степени канд. филологических наук. M., 1971. - 22 с.
142. Ботникова А.Б. 3.Т.А.Гофман и русская литература. /Первая половина XIX века/. К проблеме русско-немецких литературных взаимосвязей/. Воронеж: Изд. Воронежск. ун-та, 1977.- 206 с.
143. Ботникова А.В. "Повелитель блох" Э.Т.А.Гофмана и конец немецкой романтической сказки. В кн.: Реализм в зарубежных литературах XIX - XX веков. Вып. Б. - Саратов: Изд. Сара-товск. ун-та, 1979, с. 163 - 177.
144. Браудо Е.М. Э.Т.А.Гофман. Очерк. СПб.: Парфенон, 1922.- 56 с.
145. Бэлза И. Капельмейстер Иоганнес Крейслер. В кн.: Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. - М.: Наука, 1974, с. 541 - 563.
146. Бэлза И. Жизнь Э.Т.А.Гофмана. Вопросы литературы, 1977, JÊ 4, с. 282 - 288.
147. Герцен А.И. Гофман. В кн.: Герцен А.И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. I. - М.: АН СССР, 1954, с. 62 - 80.
148. Гроссман Л. Гофман, Бальзак и Достоевский. София, 1914, tè 5» с. 87 - 96.181. 1Убер П.К. Предисловие. В кн.: Гофман Э.Т.А. Повелитель блох. - Л.: Академия, 1929, с. У - ХЛ1.
149. Достоевский Ф.М. Три рассказа Эдгара По. В кн.: Достоевский Ф.М. Об искусстве. - М.: Искусство, 1973, с. 114 - 116,
150. Зыков С.А. Белинский о Гофмане. В кн.: Некоторые проблемы литературного мастерства. - Киров, 1973, с. 78 - 116.
151. Игнатов С.С. Э.Т.А.Гоффман. Личность и творчество. М.: О.Л.Сомова, 1914. - 195 с.
152. Каверин В. З.Т.Гофман. Речь на заседании Серапионовых братьев, посвященном памяти Э.Т.Гофмана. Книга и революция, 1922, & 7 /19/, с. 25.
153. Ладыгин М.Б. Роман Э.Т.А.Гофмана "Житейские воззрения кота Мурра" /проблематика и особенности жанра/. В кн.: Практические занятия по зарубежной литературе /Под ред. проф. Н.П.Михальской и проф. Б.И.Пурищева. - М.: Просвещение, 1981, с. Ill - 117.
154. Левит Т. Гофман и романтизм. В кн.: Гофман Э.Т.А. Собр. соч., т. 4, - М.: Недра, 1929, с. 5 - 20.
155. Логинова O.K. Дневники Гофмана. В кн. : Гофман Э.Т.А. Крейслериана. Житейские воззрения кота Мурра. Дневники. -М.: Наука, 1972, с. 564 - 591.
156. Миримский И. Романтизм Гофмана. Ученые записки кафедры истории всеобщей литературы Московского педагогического института, 1937, вып. 3, с. 4 - 62.
157. Миримский И. Социальная фантастика Гофмана. Литературная учеба, 1938, №5, с. 63 - 87.
158. Миримский И. Эрнст Теодор Амадей Гофман /1776 1822/. -В кн.: Гофман Э.Т.А. Избранные произведения в трех томах, т. I, - М.: ГИХП, 1962, с. 5 - 42.
159. Миримский И.В. Гофман. В кн.: История немецкой литературы в пяти томах. - М.: Наука, 1966, т. 3, с. 209 - 230.
160. Мистлер Ж. Жизнь Гофмана. Пер. с франц. А.Франковского. -Л.: Академия, 1929. 232 с.
161. Панкова К.С. Принцип двоемирия в романтической сказке "Золотой горшок" /К особенностям творческого метода Гофмана/. В кн.: Проблемы метода и жанра в зарубежной литературе.
162. Вып. 3. M.: МШИ им. В.И.Ленина» 1979, с. 108 - 121.
163. Рудницкий М. Фантастическая правда Гофмана. /0 творчестве нем. писателя/. Наука и религия, 1972, 6, с. 86 - 90.
164. Рудницкий М.Л. Эрнст Теодор Амадей Гофман. В кн. : Избранная проза немецких романтиков /Сост. и предисл. А.Дмитриева. Комент. М.Рудницкого. - М.: Худож. лит., 1979,т. 2, с. 408 411.
165. Савченко С. Мастерство Гофмана-сатирика в повести "Маленький Цахес", Ученые записки филологического факультета Киргизск. ун-та, 1964, вып. 12, с. 211 - 229.
166. Скотт В. О сверхъестественном в литературе и, в частности, о сочинениях Э.Т.В.Гофмана. В кн.: Скотт В. Собр. соч. в 20-ти тт., т.20, -М.-Л.:Худож. лит., 1965, с. 602 - 652.
167. Славгородская Л.В. Жанровые особенности романа "Кот IVtypp".- Вестник Ленинградок, ун-та, 1972, № 2, история, языкознание, литература, вып. I, с. 95 103.
168. Славгородская Л.В. Трактовка романтического индивидуализма в ранних новеллах Гофмана/"Дон Жуан"»"Магнетизер"/. Научные доклады высшей школы. Филол. науки, 1970, 13, с.37- 43.
169. Славгородская JI.B. Романы Э.Т.А.Гофмана. Автореф. дисс. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. Л. : Изд. ЛГУ, 1972. - 18 с.
170. Соловьев B.C. Предисловие. В кн.: Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. - М.: Альциона, 1913, с. 5 - 9.
171. Степанов Е. "Повелитель блох". Литературное обозрение, 1938, № 4, с. 70 - 75.
172. Тураев C.B. Гофман. В кн.: Зарубежная литература. Пособие для факультативных щанятий в средней школе. Изд. 3-е.- М.: Просвещение, 1977, с. 124 z 127.
173. Федоров Ф.П. Новелла Э.Т.А.Гофмана "Кавалер Глюк". Ученые записки Свердловск, гос. пед. ин-та, Тюменск. гос. пед.ин-та, 1970, Jfe 118, вып. 2, с. 88 108.
174. Федоров Ф.П. 0 построении сюжета в "итальянских" новеллах Э.Т.А.Гофмана /"Синьор Формика"/. В кн.: Вопросы сюжето-сложения. Сб. статей. Вып. 2. - Рига: Звайгзне, 1972,с. 183 198.
175. Федоров Ф.П. Эстетические, взгляды Э.Т.А.Гофмана. Рига: Звайгзне, 1972. - 63 с.
176. Федоров Ф.П. Проблемы искусства в творчестве Э-i.A.Гофмана. Автореф. дисс. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. Л., 1973. - 22 с.
177. Федоров Ф.П. 0 композиции 11 Серапионовых братьев" Э.Т.А. Гофмана. В кн.: Вопросы сюжетосложения. Сб. статей. 3. Сюжет и жанр. - Рига: Звайгзне, 1974, с. 143 - 172.
178. Фридлендер Г. "Новеллн" Э.Т.А.Гофмана. - Литературное обозрение, 1937, № 6, с. 38 42.
179. Хренова Н.И. Герцен о Гофмане. В кн.: Славяно-германские связи и отношения. - М.: Наука, 1969, с. 285 - 294.
180. Художественный мир Э.Т.А.Гофмана. М.: Наука, 1982.-2Э5с.
181. Чавчанидзе Д.Л. "Романтическая ирония" в творчестве Гофмана. Ученые записки МПШ им. В.И.Ленина, 1967, Ш 280, с. 341 - 355.
182. Чавчанидзе Д.Л. Художественный образ Э.Т.А.Гофмана /"Фантазии в манере Калло"/. В кн.: Вопросы зарубежной литературы. - М., 1968, с. 87 - 102.
183. Чавчанидзе Д.Л. Некоторые особенности художественного образа и сюжета Э.Т.А.Гофмана. Автореф. дисс. на соиск. учен, степени канд. филол. наук. М., 1969. - 16 с.
184. Чавчанидзе Д.Л. Романтический мир Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Послесловие. В кн.: Гофман Э.Т.А. Золотой горшок и другие истории. - М.: Детск. лит., 1976.
185. Чавчанидзе Д.Л. К концепции искусства в позднем немецкомромантизме /Рассказ Э.Т.А.Гофмана "Разбойники"/. В кн.: Реализм и художественные искания в зарубежной литературе XIX - XX веков. - Воронеж: Изд. Воронежск. ун-та, 1980, с. 3 - 19.
186. Чернышевский Н.Г. Русский человек на h&mdzx-vous. Полн. собр. соч., т. 5, - М.: АН СССР, 1950, с. 150 - 174.
187. Шамрай А.Ф. Эрнст Теодор Амадей Гофман. Жизнь и творчество. Киев: Днипро, 1969. - 301 с. /Яа укр. яз./
188. Шевчук. В. Тоска по сказке. В кн.: Гофман Э.Т.А. Золотой горшок. - Киев: Днипро, 1968, с. 5 - 15. /На укр. яз./
189. Янкелевич Е. Эмпирия и эмпиреи. Литературный критик, 1937, lb 3, с. 165 - 171.
190. Янковский Ю. Э.Т.А.Гофман. В кн.: Госплан Э.Т.А. Золотой горшок. Избранные произведения. - Киев: Днипро, 1976,с. 5 18. /На укр. яз./
191. Ament W. Eine unbeachtete Selbst-Persiflage von E.T.A.Hoffmann. -Fränkische Blätter für Geschichtsforschung und Heimatpflege, 1955» Nr. 5, s. 57.
192. Beardslei Chr.M. E.T.A.Hoffmann. Die Gestalt des Meisters in seinen Märchen. Bonn: Bouvier Verlag, 1975« - 200 s«
193. Bel/yardt R. Der Künstler und die Puppe. Zum Interpretation von Hoffmanns "Der Sandmann". The German Quarterly, Vol. 42. 1969t 4» S. 686 - 700.
194. Börne L. Humoralpathologie. In: Borne L. Gesammelte Schriften. Tl. 7. - Hamburg: Hoffmann u. Sampe, 1829, S. Ю4 - 112.
195. Bruing P. E.T.A.Hoffmann and the Philistrine. The German Quarterly, Vol. 28, 1955, Nr. 2, S. 111 - 121.
196. Cohn H. Realismus und Transzendenz in der Romantik, insbesondere bei E.T.A.Hoffmann. Heidelberg, 1933. - 103 S.
197. Cramer Th. Das Groteske bei E.T.A.Hoffmann. München: W.Fink, 1966.- 216 S.
198. Dahmen H. E.T.A.Hoffmanns Weltanschauung. Marburg, 1929. -XII,86 S.
199. Egli G. E.T.A.Hoffmann. Ewigkeit und Endlichkeit in seinem Werk. -Zürich, 1927. 165 S.
200. Eilert H. Theater in der Erzählkunst: Eine Studie zum Werk E.T.A.Hoffmanns. Tübingen: Niemeger, 1977« - X, 200 S.235« Ellinger G. E.T.A.Hoffmann. Sein Leben und seine Werke. Hamburg, 1894. - XII, 230 S.
201. Gloor A. E.T.A.Hoffmann. Der Lichter der entwurzelten Geistigkeit.- Zürich: Gloor, 1947. 139 S.
202. Granzow H. Hoffmann, "Kater Murr". In: Granzow H. Künstler und Gesellschaft im Roman der Goethezeit. - Bonn, 1960, S. 140 - 169.
203. Hesse H. E.T.A.Hoffmanns Werke. Die Neue Rundschau, 35» 1924,BÛ. 2, S. 1199 - 1200.
204. Hewett-Thayer H. Hoffmann: Author of the Tales. Princeton-Hew Jersey, 1948. - 416 S.
205. Hoffmann E.F. Zu E.T.A.Hoffmanns "Sandmann". Monatshefte für deutsche Unterricht, 1962, Nr. 54, S. 244 - 252.
206. Hoffmann E.T.A. /Hrsg. von H.Prang. Darmstadt, 1976.
207. Just K.G. Die Blickführung in den Märchennovellen E.T.A.Hoffmanns. Wirkendes V/ort, 1964, H. 6, S. 389 - 397.
208. Köhn L. Vieldeutige V/elt. Studien zur Struktur der Erzählungen E.T.A. Hoffmanns und zur Entwicklung seines Werkes. Tübingen: Niemeyer,1966. 324 S.
209. Martini Fr. Die Märchendichtungen E.T.A.Hoffmanns. In: E.T.A.Hoffmann /Hrsg. von H.Prang. - Darmstadt, 1976, S. 155 - 184.
210. Meyer H. Zitierkunst in E.T.A.Hoffmanns "Kater Murr". In: Interpretationen. /Hrsg. von J.Schillemeit. Bd. 4, - Hamburg, 1966, S. 179195259. Heyer H. E.T.A.Hoffmann. In: Meyer H. Der Sonderling in der deutschen Dichtung. - München, 1963, S. 100 - 143.
211. Müller H.y. Gesammelte Aufsätze über E.T.A.Hoffmann. /Hrsg. von Fr. Schnapp. Hildesheim, 1974. - 815 S.
212. Negus K. E.T.A.Hoffmanns Other World, the Romantic Author and his Hew Mythology. Philadelphia, 1965. - 183 p.
213. Nipperdey 0. Wahnsinnsfiguren bei E.T.A.Hoffmann. Köln, 1957. -226 S.
214. Nock P.J. E.T.A.Hoff mann and Nonsense. The German Quarterly, 1962, Nr. 35, p. 60 - 70.
215. Ochsner K. E.T.A.Hoffmann als Dichter des Unbewußten. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der Romantik. Frauenfeld, 1936. - 164 S.
216. Peters P.A. E.T.A.Hoffmann. The conciliatory Satirist. Monatshefte. Vol. 66. Madison, 1974, Nr. 1, S. 55 - 73.
217. Pikulik L. Anseimus in der Flasche. Kontrast und Illusion in E.TA.Hoffmanns "Der goldne Topf". Euphorion, 1969, Bd. 63, S. 341 - 371.
218. Pikulik L. Das Wunderliche bei E.T.A.Hoffmann. Zum romantischen Ungenügen an der Normalität. Euphorion, 1975, Bd. 69, S. 294 - 319.
219. Reimann 0. Das Märchen bei E.T.A.Hoffmann. München, 1926. - 87 S.269" Roehl M. Die Doppelpersönlichkeit bei E.T.A.Hoffmann. Rostok, 1918, - 60 S.
220. Röser B. Satire und Humor bei E.T.A.Hoffmann. Eine Untersuchung der historischen und poetologischen Grundlagen und die Realisation im Werk. (inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades für
221. Philosophie an der Ludwig-Maximilians-Universitet zu München FB Sprach- und Literaturwissenschaft I vorgelegt von Barbara Röser).- Bamberg, 1976. 319 S.
222. Sakheim A. E.T.A.Hoffmann. Studien zu seiner Persönlichkeit und seinen Werken. Leipzig: H^Haesser, 1908. - 291 S.
223. Schaukai R. E.T.A.Hoffmann. Sein Werk aus seinem Leben daxgestellt.- Zürich-Leipzig-Wien, o.J. (1923). 309 S.
224. Schenck E. E.T.A.Hoffmann. Ein Kampf um das Bild des Menschen. -Berlin, 1939- XVIII, 754 S.
225. Schneider G. Einleitung. In: Hoffmann E.T.A. Werke in 3 Bände. -Berlin-Weimar: Aufbau-Verlag, 1979, Bd. 1, S. V - LVI.275» Schücking J.L. Die Marionette bei E.T.A.Hoffmann und H.v.Kleist. -Puppentheater, 1923, Hr. 1, S. 67 70.
226. Singer H. Hoffmann, "Kater Murr". In: Der deutsche Roman /Hrsg. von B.v.Wiese. Bd. 1. - Düsseldorf: A.Bagel, 1963, S. 301 - 328.
227. Taylor R. Hoffmann. London, 1963. - 112 p.
228. Thalmann M. E.T.A.Hoffmanns Wirklichkeitsmärchen. The Journal of English, and Germanic Philology, 1952, Bd. 56, Hr. 4, S. 473 - 491.
229. Uhl Chr. v. Geleitwort und Bemerkungen. In: Hoffmann E.T.A. Khar-rpanti. - Berlin, o.J. (1953), S. V - XV.
230. Winter I. Untersuchungen zum Serapiontischen Prinzip E.T.A.Hoffmanns.- The Hague: Paris, 1976. 90 3.
231. Wührl P.W. Hoffmanns Märchentheorie und "Die Erzählungen aus den Tausendundein Nächten". Mitteilungen der E.T.A.Hoffmann-Gesellsch-aft, 1963, II. 10, S. 20 - 26.
232. Zweig; S. E.T.A.Hoffmann. In: Zweig S. Europäisches Erbe. - Frankfurt a.H.: A.Bagel, 1960, S. 168 - 171.
А. Карельский. Эрнст Теодор Амадей Гофман.
Текст взят с портала Philology.ru, воспроизведенный оным по изданию: Гофман Э. Т. А. Собрание сочинений. В 6 т. - Т. 1. - М., 1991.
"...С тобой должен я посоветоваться, с тобой, прекрасная,
божественная тайна моей жизни!.. Ты-то ведь знаешь, что никогда я не был
человеком низких побуждений, хоть многие и считали меня таковым. Ибо во
мне пылала вся та любовь, что от века зовем мы Мировым Духом, искра ее
тлела в моей груди, пока дыхание твоего существа не раздуло ее в светлое радостное пламя".
...Старик вдруг очнулся от своего возвышенного забытья, и лицо его, чего давно уже с ним
не бывало, осклабилось в той странно-любезной то ли улыбке, то ли ухмылке,
что находилась в разительнейшем противоречии с исконным простодушием
его существа и придавала всему его облику черту некой даже зловещей
карикатурности.
Э.-Т.-А. Гофман. Житейские
воззрения кота Мурра.
Гофман из тех писателей, чья посмертная слава не
ограничивается шеренгами собраний сочинений, встающими ряд за рядом из века в век и превращающими
книжные полки в безмолвные, но грозные полки; не оседает она и пирамидами фундаментальных изысканий -
памятниками упорного одоления этих полков; она от всего этого как бы даже и не зависит.
Она скорее легка и крылата. Как странный пряный аромат, она разлита в духовной атмосфере,
вас окружающей. Вы можете и не читать "сказок Гофмана" - вам рано или поздно их расскажут или на них
укажут. Если в детстве вас обошли Щелкунчик и мастер Коппелиус, они все равно напомнят о себе позже - в
театре на балетах Чайковского или Делиба, а если не в театре, то хоть на театральной афише или на
телевизионном экране. Тень Гофмана постоянно и благотворно осеняла русскую культуру в XIX веке; в XX
веке она вдруг легла на нее затмением, материализовавшимся бременем трагического гротеска, - вспомним
хотя бы судьбу Зощенко, в которой роль отягчающего обстоятельства сыграла его принадлежность к группе с
гофмановским названием "Серапионовы братья". Гофман оказался под подозрением в неблагонадежности,
его самого теперь тоже издавали скупо и обрывочно - но от этого он не перестал присутствовать вокруг, в
литературе и, главное, в жизни, - только имя его стало отныне в большей степени знаком и символом
атмосферного неблагополучия ("гофманиана"!), соперничая тут разве что с именем Кафки; но Кафка многим
тому же Гофману и обязан.
(Подозрение в неблагонадежности, азарт
преследования и синдром подследственности... Гофман уже знал механику этих процессов. В его повести
"Повелитель блох" фабрикуется дело против ни в чем не повинного человека, и следственная метода
описывается, в частности, так: "Проницательный Кнаррпанти имел наготове не меньше сотни вопросов,
которыми он атаковал Перегринуса... Преимущественно они были направлены на то, чтобы выведать, о чем
думал Перегринус как вообще всю свою жизнь, так, в частности, при тех или других обстоятельствах,
например при записывании подозрительных мыслей в свой дневник. Думание, полагал Кнаррпанти, уже само
по себе, как таковое, есть опасная операция, а думание опасных людей тем более опасно". И далее: "...я
представлю в таком двусмысленном свете нашего молодца, что все только рты разинут. А отсюда подымется
дух ненависти, который навлечет на его голову всякие беды и восстановит против него даже таких
беспристрастных, спокойных людей, как этот господин депутат".)
Сегодня
наконец-то настала пора представить нашим читателям достойное Собрание сочинений Гофмана; что
касается его литературно-художественных произведений, оно практически полное. Гофман впервые
удостаивается почести классика, и читатели сами теперь смогут судить, о чем думал этот писатель "как всю
свою жизнь, так, в частности, при тех или других обстоятельствах".
* *
*
На литературную стезю Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) вступил
поздно: тридцатитрехлетним, если отсчет вести с журнальной публикации новеллы "Кавалер Глюк" в 1809
году; тридцативосьмилетним, если иметь в виду первую крупную публикацию, принесшую ему известность, -
сборник рассказов "Фантазии в манере Калло", три первых тома которого вышли в 1814 году.
Современники встретили нового писателя с растерянностью и настороженностью. Его
фантазии сразу были опознаны как романтические, в духе еще популярного тогда настроения, но что значила
такая припоздалость? Романтизм ассоциировался прежде всего с поколением молодых, зараженных
французский революционным вирусом, тех, кто иронизировал над "резонером" Шиллером и рвался, подобно
Клейсту, "сдернуть венок с чела Гете". Германия успела привыкнуть к тому, что ее гениальные романтические
поэты начинали спозаранку, вспыхивали фейерверками и метеорами, иные и угасали совсем рано, как
Новалис и Вакенродер, - ослепив и отпылав, превращались в легенды; молодости приписывались и на
молодость списывались многие их странности.
А как прикажете понимать
фейерверк, вдруг устроенный господином в летах без определенного общественного положения? Был
судейским чиновником где-то на окраине, в Польше, потом капельмейстером в Бамберге, Лейпциге и
Дрездене, сейчас перебивается чиновником в министерстве юстиции в Берлине, без жалованья; говорят, что
неуживчив и странен, высылался из Познани в Плоцк за карикатуры на начальство; похоже, еще и пьет. Во
всяком случае, в сказке "Золотой горшок" романтико-фантастические любовные мечты студиозуса Ансельма
о прекрасной зеленой змейке слишком уж откровенно подогреваются миской пунша, и добро бы только его
мечты: после упомянутой миски романтическими фантазерами становятся и столь почтенные, степенные
люди, как конректор Паульман и регистратор Геербранд. Что за странная, подозрительно легкомысленная
переоценка ценностей? Романтическим мечтам положено быть сугубо духовного, неземного происхождения,
они воспламеняются в душе искрой небесной, а тут их источник так кухонно-прост, и рецепт прилагается:
"бутылка арака, несколько лимонов и сахар".
Через восемь лет после выхода
"Фантазий" Гофмана не стало. Умирал он уже писателем не то чтобы прославленным (этот эпитет скорее
подходит для безукоризненного классика или бесспорного гения), но весьма - выразимся по-современному -
популярным. Он успел написать за восемь лет на удивление много - романы "Эликсиры дьявола" (1816) и
"Житейские воззрения кота Мурра" (1821), огромное количество повестей, рассказов и сказок, отчасти
объединенных в циклы "Ночные этюды" (1816-1817) к "Серапионовы братья" (1819-1821). Гофмана охотно
читали, а после выхода в свет его повести "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер" (1819) писатель-романтик
Шамиссо назвал его "нашим бесспорно первым юмористом".
Но на протяжении
всего XIX века Германия все-таки держала его во втором разряде: в "высокую" традицию он не укладывался.
Прежде всего, юмор у этой традиции был не особо в чести - он допускался туда по возможности в
приличествующих метафизических одеяниях: хотя бы тяжеловесно-витиеватый юмор Жан-Поля или
теоретически расчисленный юмор ранних романтиков (столь солидно и всесторонне философски
обоснованный, что про смех при нем уже забываешь, дай бог понять глубины). У Гофмана же сначала
смеешься, а насчет глубин спохватываешься потом - и, как увидим, они обнаруживаются.
Самой свободой и безоглядностью своего смеха Гофман вызывал подозрение: это уж совсем
просто, это "для бедных", это массовый потешник. Ирония, сатира? К ним отношение было примерно такое же
- это подтвердилось и судьбой Гейне в Германии. Что же касается "серьезной" проблематики Гофмана -
столкновения поэзии и прозы, художнического идеала и действительности, - она воспринималась к тому
времени как dejа vu, опять-таки благодаря ранним романтикам. Выходило, что Гофман только все огрубил,
спустил с эмпирей духа на рыночную площадь. Он и сам под занавес в этом откровенно сознался: в
написанной перед смертью новелле "Угловое окно" оставил своим поэтическим наследникам завет не
пренебрегать рыночной площадью и "ее непрекращающейся суетней".
В XX
веке Германия стала внимательней к Гофману. Но у благожелательных читателей и истолкователей тоже
складывалась своя система клише. Имя Гофмана связывалось прежде всего со знаменитым принципом
"двоемирия" - романтически заостренным выражением вечной проблемы искусства, противоречия между
идеалом и действительностью, "существенностью", как говаривали русские романтики. "Существенность"
прозаична, то есть мелка и убога, это жизнь неподлинная, недолжная; идеал прекрасен и поэтичен, он -
подлинная жизнь, но он живет лишь в груди художника, "энтузиаста", действительностью же он гоним и в ней
недостижим. Художник обречен жить в мире собственных фантазий, отгородившись от внешнего мира
защитным валом презрения либо ощетинившись против него колючей броней иронии, издевки, сатиры. И в
самом деле, таков как будто Гофман и в "Кавалере Глюке", и в "Золотом горшке", и в "Собаке Берганце", и в
"Крошке Цахесе", и в "Повелителе блох", и в "Коте Мурре".
Есть и другой образ
Гофмана: под маской чудачествующего потешника скрывается трагический певец раздвоенности и
отчужденности человеческой души (не исключая уже и души артистической), мрачный капельмейстер ночных
фантазий, устроитель хоровода двойников, оборотней, автоматов, маньяков, насильников тела и духа. И для
этого образа тоже легко найти основания: в "Песочном человеке", "Майорате", "Эликсирах дьявола",
"Магнетизере", "Мадемуазель де Скюдери", "Счастье игрока".
Эти два образа,
переливаясь, мерцая, являются нам, так сказать, на авансцене гофмановского мирового театра. А ведь в
глубине, ближе к кулисам, маячат, то обрисовываясь, то размываясь, еще и другие образы: веселый и
добрый сказочник - автор прославленного "Щелкунчика"; певец старинных ремесел и патриархальных устоев
- автор "Мастера Мартина-бочара" и "Мастера Иоганнеса Вахта"; беззаветный жрец Музыки - автор
"Крейслерианы"; тайный поклонник Жизни - автор "Углового окна".
Гофман в
гражданском своем существовании был, в зависимости от поворотов судьбы, попеременно судейским
чиновником и капельмейстером, истинное свое призвание видел в музыке, славу приобрел себе
писательством. Существованье Протея. Многие истолкователи склонны считать, что его исконная стихия
все-таки музыка: мало того что он был сам композитором (в частности, автором оперы "Ундина" на сюжет
повести романтика Фуке, известной у нас по переводу Жуковского), - музыка пронизывает всю его прозу не
только как тема, но и как стиль. На самом деле душа Гофмана, душа его искусства шире и музыки и
литературы: она - театр. В театре этом есть, как положено, и музыка, и драма, и комедия, и трагедия. Только
роды и виды не разделены: свяжите образ Гофмана-актера (и режиссера) с одной, сиюминутной ипостасью -
он в следующую секунду, ошеломив вас кульбитом, предстанет совсем иным. Гофман и устраивает этот
театр, и существует в нем; он сам оборотень, лицедей, гистрион до кончиков ногтей.
Например, описать своего героя, дать его портрет - это ему чаще всего скучно, он это если и сделает,
то мимоходом, не смущаясь шаблонами; как в театре: ремарки - балласт. Но зато он охотно покажет его,
покажет в действии, мимике, жесте - и чем гротескней, тем охотней. Герой сказки "Золотой горшок" вылетает
на ее страницы, сразу угораздив в корзину с яблоками и пирожками; яблоки катятся во все стороны, торговки
бранятся, мальчишки радуются поживе - срежиссирована сцена, но и создан образ!
Гофман спешит не изваять и отчеканить фразу, не выстроить ажурное или монументальное здание
философской системы, а выпустить на сцену живую, бурлящую, напирающую жизнь. Конечно, на фоне
отрешенно философствующих романтических витий, сновидчески уверенно и бесстрашно шествующих по
эмпиреям духа над его безднами, спотыкающийся, балансирующий Гофман выглядит дилетантом,
потешником - дитя площади и балагана. Но, между прочим, и у площади с балаганом, не забудем, тоже есть
своя философия; только она не выстроена, а явлена. Они тоже - проявление жизни, одна из ее сторон. И как
мы увидим, именно та сторона, от которой Гофман, при всей своей несомненной тяге к эмпиреям духа, не в
силах оторваться.
Казалось бы - да какая такая жизнь? Жизнь ли этот хоровод
фантазий и фантомов? Полуреальная, полупризрачная - оперная - донна Анна в "Дон Жуане", зеленые змейки
с их папашей, князем духов Саламандром в "Золотом горшке", механическая кукла Олимпия и получеловек,
полуоборотень Коппола в "Песочном человеке", фантастический уродец Цахес с его магическими
благодетелями и супротивниками, призраки и маньяки давно минувших времен в "Майорате", "Выборе
невесты", "Мадемуазель де Скюдери"... Какое это имеет отношение к жизни?
Не прямое, нет. Но немалое.
* * *
Каждый
истинный художник - и как личность, и как творец - воплощает свое время и ситуацию человека в своем
времени. Но то, что он нам о них сообщает, высказано на особом языке. Это не просто язык искусства,
"образный" язык; в его слагаемые входят еще и художественный язык времени, и индивидуальный
художественный язык данного творца.
Художественный язык гофмановского
времени - романтизм. В богатейшей его грамматике главное правило и исходный закон - несклоняемость духа,
независимость его от хода вещей. Из этого закона выводится и требование абсолютной свободы земного
носителя этого духа - человека творческого, вдохновенного, для обозначения которого в романтическом
языке охотно используется латинское заимствование - "гений", а в гофмановском языке - еще и греческое
"энтузиаст" ("боговдохновенный"). Воплощения такой боговдохновенности у Гофмана - прежде всего
музыканты: и "кавалер Глюк", и творец "Дон Жуана", и сотворенный самим Гофманом капельмейстер
Крейслер - двойник автора и собирательный образ артиста вообще.
Почему
именно у романтиков вопрос о свободе гения встал так остро, как никогда прежде? Это тоже продиктовано
временем. Французская буржуазная революция конца XVIII века - купель всего европейского романтизма. Ген
свободы в романтическую натуру заложила она. Но уже самой реальной практикой насаждения "свободы,
равенства, братства", особенно на последнем этапе, - ожесточенным взаимоистреблением партий и фракций
в борьбе за власть, апелляцией к инстинктам толпы, разгулом массового доносительства и массовых
ритуальных расправ - революция изрядно поколебала романтические души. А послереволюционное развитие
Европы давало романтикам наглядный урок того, что расширение диапазона личной свободы, принесенное
буржуазным переворотом, - благо не абсолютное, а весьма относительное. На их глазах обретенная в
революции свобода выливалась в эгоистическую борьбу за место под солнцем; на их глазах выходила из
берегов раскрепощенная буржуазная, мелкобуржуазная, плебейская стихия, масса, соблазненная призраком
власти, а на самом деле манипулируемая сверху и демонстрирующая эту власть там, где она только и может:
в завистливо-злобной нетерпимости ко всему неординарному, к инакомыслию, к независимости мнения и
духа.
Тут важно еще учесть, что именно на это время пришлось и резкое
расширение возможностей массового производства художественной продукции, рост ее общедоступности,
равно как и общей осведомленности и начитанности. Современные исследователи указывают, что к 1800
году уже четверть населения Германии была грамотной - каждый четвертый немец стал потенциальным
читателем. Соответственно этому, если в 1750 году в Германии было издано 28 новых романов, то за
десятилетие с 1790 по 1800 год их появилось 2500. Эти плоды эпохи Просвещения романтикам тоже
представлялись не однозначно благими; для них все яснее становились необратимые утраты, входящие в
цену "широкого успеха": подчинение искусства рыночной конъюнктуре, открытость его всякому, в том числе и
заносчиво-невежественному суждению, усиление зависимости от требований публики.
Служители и носители духовности все более ощущали себя в безнадежном и подавляемом
меньшинстве, в постоянной опасности и осаде. Так возник романтический культ гения и поэтической
вольности; в нем слились изначальный революционный соблазн свободы и почти рефлекторная реакция
самозащиты против устанавливающегося торжества массовости, против угрозы угнетения уже не сословного,
не социального, а духовного.
Одиночество и беззащитность человека духа в
прозаическом мире расчета и пользы - исходная ситуация романтизма. Как бы в компенсацию этого
ощущения социального неуюта ранние немецкие романтики стремились стимулировать свое ощущение
сопричастности таинствам духа, природы и искусства. Романтический гений, по их убеждению, изначально
заключает в себе всю Вселенную; даже задаваясь целью познать внешний мир, их герой в конечном итоге
обнаруживает, что все достойные познания тайны этого мира присутствуют уже разрешенными в его
собственной душе и, выходит, ездить так далеко не стоило. "Меня все приводит к себе самому" - знаменитая
формула Новалиса. Без внешнего мира можно как бы и обойтись; он весь уже есть в твоем "я" - как "в единой
горсти бесконечность", как "небо в чашечке цветка" (это формула другого раннего романтика, англичанина
Блейка).
Но обойтись без мира можно, конечно, только в теории. Миг такой
свободы неуловимо краток, он - лишь возвышенное философское построение, умозрительная мечта. Очнись
от нее - и кругом все та же жизнь и те же проклятые вопросы. Один из первых: кто же виноват?
Добрый сновидец Новалис избегал этого вопроса, не спускался на землю и, по сути, не
винил никого - разве что философов-просветителей с их рационализмом и утилитаризмом. Другие романтики -
Тик, Фридрих Шлегель, Брентано - ополчались прежде всего на современное филистерство. Были и такие, что
хотели смотреть глубже и шире. Клейст подозревал трагические разрывы в изначальном устройстве и мира, и
человека. Возникали и все усиливались сомнения в самом экстерриториальном статусе романтического
гения: не таится ли за его возвышенным отрешением от мира высокомерный - и тогда греховный! -
индивидуализм и эгоизм? Одним из первых это почувствовал Гельдерлин, в сокрушении воскликнувший
однажды: "Да не оправдывает себя никто тем, что его погубил мир! Человек сам губит себя! В любом случае!"
Нарастая, такие настроения очень скоро оформились у романтиков в специфический комплекс
патриархального народничества и религиозного отречения. Это - другой полюс раннего романтизма: только
что индивид был вознесен до небес, поставлен над всем миром - теперь он низвергнут во прах, растворен в
безымянном народном потоке.
Романтические воздушные замки возводились
и рушились, одна утопия сменялась другой, подчас противоположной, мысль лихорадочно металась от
крайности к крайности, рецепты омоложения человечества перечеркивали друг друга.
Вот в эту атмосферу брожения и разброда пришел Гофман. Он, как уже говорилось, не торопился
построить универсальную философию, способную раз и навсегда объяснить тайну бытия и объять все его
противоречия высшим законом. Но о гармонии, о синтезе мечтал и он; только свой путь к возможному синтезу
он видел не в ожесточенно-утопических крайностях, в которые снова и снова отливалась романтическая
философия, а в другом: он не мыслил себе этого пути без отважного погружения в "непрекращающуюся
суетню" жизни, в зону тех реальных ее противоречий, что так томили и других романтиков, но лишь выборочно
и нехотя впускались на страницы их сочинений и осмыслялись по возможности отвлеченно.
Потому Гофман, как и Клейст до него, прежде всего ставил вопросы, а не давал готовые ответы.
И потому он, так боготворивший гармонию в музыке, в литературе воплотил диссонанс.
То и дело взрываются фейерверки фантазии на страницах сказок Гофмана, но блеск потешных
огней нет-нет да и озарит то глухой городской переулок, где вызревает злодейство, то темный закоулок души,
где клокочет разрушительная страсть. "Крейслериана" - и рядом "Эликсиры дьявола": на возвышенную
любовь Крейслера вдруг падает тень преступной страсти Медардуса. "Кавалер Глюк" - и "Мадемуазель де
Скюдери": вдохновенный энтузиазм кавалера Глюка вдруг омрачается маниакальным фанатизмом ювелира
Кардильяка. Добрые чародеи одаряют героев свершением мечтаний - но рядом демонические магнетизеры
берут их души в полон. То перед нами веселые лицедеи комедии масок, то жутковатые оборотни - вихрь
карнавала кружится над бездной. Все эти модели художественной структуры собраны, как в фокусе, в
итоговом произведении Гофмана - романе "Житейские воззрения кота Мурра". Он неспроста открывается
обширной картиной фейерверка, закончившегося пожаром и разбродом; и неспроста в нем романтические
страдания гениального капельмейстера с неумолимой методичностью перебиваются и заглушаются
прозаическими откровениями ученого кота.
Зыбкость, тревожность,
"перевороченность" эпохи никто до Гофмана не воплотил в столь впечатляюще образном, символическом
выражении. Опять-таки: философы от романтизма, предшественники и современники Гофмана, много и
охотно рассуждали о символе, о мифе; для них это даже самая суть подлинного - и прежде всего
романтического - искусства. Но когда они создавали художественные образы в подтверждение своих теорий,
они настолько перекладывали в них символики, что сплошь и рядом возникали бесплотные фантомы, рупоры
идей, причем идей весьма общих и туманных.
Гофман - не философ, а всего
лишь беллетрист - берется за дело с другого конца; его исходный материал - современный человек во плоти,
не "всеобщее", а "единичное"; и в этом единичном он вдруг цепким своим взором выхватывает нечто,
взрывающее рамки единичности, расширяющее образ до объемности символа. Кровное дитя романтической
эпохи, отнюдь не чуждый ее фантастико-мистическим веяниям, он тем не менее твердо держался принципа,
сформулированного им в одной из театральных рецензий: "не пренебрегать свидетельствами чувств при
символическом изображении сверхчувственного". Понятное дело, еще менее пренебрегал он этими
свидетельствами при изображении собственно "чувственного", реального.
Именно это позволило Гофману, при всей его склонности к символике, фантастике, гротескным
преувеличениям и заострениям, впечатляюще воссоздать не только общую бытийную ситуацию
современного ему человека, но и его психическую конституцию.
* * *
Конечно, любой романтический писатель, в какую бы историческую или мифологическую
даль он ни помещал своего героя, в уме-то держал именно современную ему ситуацию. Средневековый
рыцарский поэт Генрих фон Офтердинген у Новалиса, древнеэллинский философ Эмпедокл у Гельдерлина,
мифическая царица амазонок Пентесилея у Клейста - под архаическими одеждами этих героев бьются,
томятся, страдают вполне современные сердца. В некоторых новеллах и в романе "Эликсиры дьявола"
Гофман тоже отодвигает своего героя на большую или меньшую историческую дистанцию (в романе она
совсем невелика - в пределах полустолетия). Но в целом он совершает в романтической литературе
радикальный сдвиг угла зрения: его вдохновенный герой-"энтузиаст" обмирщен, поставлен в гущу
современной повседневной реальности. Место действия в большинстве его произведений - не
идеализированное средневековье, как у Новалиса, не романтизированная Эллада, как у Гельдерлина, а
современная Германия, разве что романтико-иронически либо сатирически шаржированная - как, скажем,
современные Гоголю Малороссия и Россия в "Миргороде" и петербургских повестях. Тут же с героями
Гофмана происходят и самые невообразимые фантастические приключения и злоключения - сказочные
принцы и волшебники толкутся между дрезденскими или берлинскими студентами, музыкантами и
чиновниками.
Чиновников пока оставим, а к волшебникам, музыкантам и
студентам приглядимся внимательней. Это, как правило, персонажи, отмеченные несомненной симпатией
автора; они составляют круг преимущественно "положительных" героев. Но и здесь есть знаменательные
градации.
Студенты у Гофмана, все эти романтически-восторженные юноши
(Ансельм в "Золотом горшке", Натанаэль в "Песочном человеке", Бальтазар в "Крошке Цахесе"), - энтузиасты
начинающие, дилетантствующие; они неопытны и наивны, они сплошь и рядом попадают впросак, и за ними
без конца надо следить. Это входит в обязанности волшебников и музыкантов - они старше и опытней, они
одаряют молодых энтузиастов своим неусыпным попечением (Линдгорст-Саламандр в "Золотом горшке",
Проспер Альпанус в "Крошке Цахесе", маэстро Абрахам в "Коте Мурре").
Одна
из самых трогательных черт Гофмана - эта его постоянная сосредоточенность на проблеме обучения,
охранения - так и хочется сказать по-современному: охраны юности. Если учесть, что "учителя-волшебники" у
Гофмана в избытке наделены его собственными характеристическими чертами, то нетрудно догадаться, что
и все эти студенты для него - ипостаси себя прежнего. Здесь мудрость возраста стоит лицом к лицу с
неведеньем юности.
Неведенье это блаженно, а мудрость горька. Успеху
Ансельма или Бальтазара можно - по крайней мере, в сюжете - помочь благодатным чародейством; но те, кто
уже пережил зарю туманной юности, прекрасно знают цену этим чудесам. Перечитайте внимательно в конце
"Крошки Цахеса" феерическую сцену разоблачения злого карлика. Триумфальная победа "энтузиастов" над
"филистерами" оформляется тут подчеркнуто театрально, с массой вспомогательных сценических эффектов.
Автор - а точнее говоря, режиссер - бросает на поле боя целую машинерию чудес, головокружительных
превращений и трюков. В этом очередном гофмановском фейерверке отчетливо ощутим нарочитый перебор:
автор играет в сказку, и вся эта поэтическая пиротехника призвана образовать дымовую завесу, чтобы за
ней тем убедительней "для юношества" предстала победа добра. Здесь происходит то же, что и в
"собственно сказках" Гофмана, создававшихся уже прямо для детей (которых так любил он сам и так любят
его герои, понимая их с полуслова).
Сами же гофмановские волшебники и
маэстро стоят лицом к лицу с реальным миром и ничем от него не защищены. В судьбах зрелых героев
Гофмана и разыгрывается подлинная драма человеческого бытия в современном мире.
Во всех этих героях бросается в глаза прежде всего одна черта: резкая смена настроений,
внезапные - и обескураживающие других - переходы от "нормального", спокойного поведения к
эксцентрическому, вызывающему, эпатирующему. Самая снисходительная реакция окружающих на это -
"чудаки"; но недалеко от нее и другая, более суровая, - "безумцы". Между тем, если вдумчиво
проанализировать каждый такой момент перелома, можно обнаружить, что он отнюдь не выражает
немотивированную реакцию. "Странно-любезная то ли улыбка, то ли ухмылка" появляется на лице
гофмановского героя всякий раз тогда, когда внешний мир вольно или невольно нарушает установившийся со
временем между ним и героем условный "консенсус", неустойчивое равновесие, - когда мир вдруг находит в
благоприобретенной броне случайную брешь и затрагивает уже не броню, а душу. Как сказано в "Майорате"
об одном из героев, он "боялся сражения, полагая, что всякая рана ему смертельна, ибо он весь состоял из
одного сердца".
Дело тут, стало быть, не просто в некой врожденной
гофмановской склонности к лицедейству и шутовству. Неспроста это шутовство является у Гофмана уделом
самых мудрых, артистически организованных и поэтически настроенных - "тонкокожих", как говорится у него в
другом месте. Это их, беззащитных, защитная реакция против обступающего их чуждого и враждебного мира.
Во всяком случае, на любой выпад, даже и сделанный невзначай, по бестактности, а порой и по простоте
душевной, они реагируют молниеносно - только не ответным ударом, а почти по-детски импульсивной и, чего
уж говорить, бессильной демонстрацией своего презрения к норме, выплеском своей неординарности. Это
судороги индивидуальности в тесном и все сужающемся кольце пошлости, массы, толстокожести.
Но это только один - и нескрываемо романтический - пласт гофмановской характерологии.
Гофман идет и глубже.
В поразительном этюде "Советник Креспель" из
"Серапионовых братьев" дается, пожалуй, самая виртуозная разработка этой психологической - впрочем, и
социальной тоже - проблематики. О заглавном герое там говорится: "Бывают люди, которых природа или
немилосердный рок лишили покрова, под прикрытием коего мы, остальные смертные, неприметно для чужого
глаза исходим в своих безумствах... Все, что у нас остается мыслью, у Креспеля тотчас же преобразуется в
действие. Горькую насмешку, каковую, надо полагать, постоянно таит на своих устах томящийся в нас дух,
зажатый в тиски ничтожной земной суеты, Креспель являет нам воочию в сумасбродных своих кривляньях и
ужимках. Но это его громоотвод. Все вздымающееся в нас из земли он возвращает земле - но божественную
искру хранит свято; так что его внутреннее сознание, я полагаю, вполне здраво, несмотря на все кажущиеся -
даже бьющие в глаза - сумасбродства".
Это уже существенно иной поворот.
Как легко заметить, речь тут идет не о романтическом индивиде только, а о человеческой природе вообще.
Характеризует Креспеля один из "остальных смертных" и все время говорит "мы", "в нас". В глубинах-то душ,
оказывается, все мы равны, все "исходим в своих безумствах", и линия раздела, пресловутое "двоемирие"
начинается не на уровне внутренней, душевной структуры, а на уровне лишь внешнего ее выражения. То, что
"остальные смертные" надежно скрывают под защитным покровом (все "земное"), у Креспеля, прямо
по-фрейдовски, не вытесняется вглубь, а, напротив, высвобождается вовне, "возвращается земле"
(психологи фрейдовского круга так и назовут это "катарсисом" - по аналогии с аристотелевским "очищением
души").
Но Креспель - и тут он вновь возвращается в романтический
избранный круг - свято хранит "божественную искру". А возможно - причем сплошь и рядом - еще и такое,
когда ни нравственность, ни сознание не оказываются в силах побороть "все вздымающееся в нас из земли".
Гофман бесстрашно вступает и в эту сферу. Его роман "Эликсиры дьявола" на поверхностный взгляд может
представиться сейчас всего лишь забористой смесью романа ужасов и детектива; на самом деле история
безудержно нагнетаемых нравственных святотатств и уголовных преступлений монаха Медардуса - притча и
предупреждение. То, что, применительно к Креспелю, смягченно и философически-отвлеченно обозначено
как "все вздымающееся в нас из земли", здесь именуется гораздо резче и жестче - речь идет о "беснующемся
в человеке слепом звере". И тут не только буйствует бесконтрольная власть подсознательного,
"вытесняемого" - тут еще и напирает темная сила крови, дурной наследственности.
Человек у Гофмана, таким образом, тесним не только извне, но и изнутри. Его "сумасбродные
кривлянья и ужимки", оказывается, не только знак непохожести, индивидуальности; они еще и каинова печать
рода. "Очищение" души от "земного", выплеск его наружу может породить невинные чудачества Креспеля и
Крейслера, а может - и преступную разнузданность Медардуса. Давимый с двух сторон, двумя побуждениями
раздираемый, человек балансирует на грани разрыва, раздвоения - и тогда уже подлинного безумия.
Карнавал над бездной...
* * *
Но это означает,
что романтик Гофман совершает в стане романтических воинов духа сокрушительную диверсию: он
разрушает самую сердцевину, ядро их системы - их безоглядную веру во всемогущество гения.
Другие романтики очень многое из того, что ощутил Гофман, тоже ощущали, а нередко и
выражали (особенно Гельдерлин и Клейст). Романтизм полон пророческих предвосхищений, для нашего
времени подчас ошеломительных, - неспроста оно вглядывается в эпоху романтизма с таким вниманием. Но
все-таки большинство романтических собратьев Гофмана, "пренебрегая свидетельствами чувств", пытались
"снять" открывшиеся им противоречия человеческого бытия чисто философски, преодолеть их в сферах духа,
с помощью идеальных умозрительных конструкций. Гофман отринул все эти теоретические обольщения -
либо отвел им тот статус, который им единственно и пристал: статус сказки, иллюзии, утешительной мечты.
Опьяненный фантазиями Гофман - на поверку почти обескураживающе трезв.
Новалис истово и неустанно доказывал, что частица гения заключена в каждом из нас, она как бы дремлет до
поры до времени в нашей душе, лишь погребенная под наслоениями эпох "цивилизации". Гофман истово и
неустанно зондировал эту душу, пристально всматривался в нее - и обнаружил там вместо изначальной
гармонии роковую раздвоенность, вместо прочного стержня зыбкий, переменчивый контур; если в этих
глубинах и сокрыты тайны универсума, то не только благие - там перемешаны зоны света и тьмы, добро и
зло.
У Новалиса герой его романа "Генрих фон Офтердинген", юноша,
готовящийся к призванию поэта, встречается в своих странствиях с неким отшельником (оба, конечно,
предшественники гофмановских героев - и его юных энтузиастов, и его пустынника Серапиона); листая одну
из древних исторических книг в пещере отшельника, Генрих с изумлением обнаруживает на ее картинках свое
собственное изображение. Это, конечно, символ, аллегория: образное выражение "поэт живет в веках"
Новалис материализует, предлагает воспринимать буквально; он не только выражает тут популярную у
романтиков общую идею "предсуществования" личности, но и применяет ее к личности прежде всего поэта. "Я
вездесущ, я бессмертен, я лишь меняю ипостаси" - вот новалисовский смысл идеи предсуществования и
превращения.
У Гофмана мы с превращениями сталкиваемся на каждом шагу;
в собственно сказках это может выглядеть и вполне безобидно, таков тут закон жанра, но когда хоровод
двойников и оборотней завихряется все неуемней, захватывая повесть за повестью и подчас становясь
поистине страшным, как в "Эликсирах дьявола" или в "Песочном человеке", картина решительным образом
меняется, бесповоротно омрачается. "Я распадаюсь, я теряю ощущение своей цельности, я не знаю, кто я и
что я - божественная искра или беснующийся зверь" - вот гофмановский поворот темы.
И это, напомним, касается не только душ "остальных смертных" - души Медардуса или
владельца майората, Кардильяка или игрока, - это касается, увы, "энтузиастов" и гениев тоже! Вместе с
другими романтиками отвергая просветительский образ человека "разумного", рационального и
расчисленного - как уже несостоятельный и себя не оправдавший, Гофман в то же время сильно сомневается
и в романтической ставке на раскованное чувство, на произвол поэтической фантазии; по вердикту Гофмана,
прочной опоры они тоже не дают.
Гофману ли приписывать сомнения в
художниках, в "энтузиастах"? Ему ли, восславившему на стольких страницах музыку, искусство, саму "душу
художника"?
Ведь, в конце концов, на предыдущие рассуждения можно
возразить, что Гофман, заглянув в бездны человеческой натуры, все-таки любимых своих героев до
нравственного падения не довел. Более того - он даже Медардуса заставил под конец раскаяться в своих
преступлениях; а незадолго до этого конца заставил его выслушать такое поучение папы римского:
"Предвечный дух создал исполина, который в силах подавлять и держать в узде беснующегося в человеке
слепого зверя. Исполин этот - сознание... Победа исполина - добродетель, победа зверя - грех".
Но в сознании-то вся и загвоздка. Когда Гофман цепкий, сверлящий свой взгляд
направляет уже непосредственно на сознание "энтузиаста", когда он это сознание не просто безоглядно
идеализирует, а еще и трезво анализирует, результат получается далеко не однозначный. Тут и
обнаруживается, что отношение Гофмана к художникам - отсюда не только безоговорочное приятие и
прославление.
Казалось бы, все просто: двоемирие Гофмана - это
возвышенный мир поэзии и пошлый мир житейской прозы, и если гении страдают, то во всем виноваты
филистеры. На самом деле у Гофмана все не так просто. Эта типичная исходная логика романтического
сознания - уж Гофману-то она знакома досконально, она им испытана на себе - в его сочинениях отдана на
откуп как раз этим его наивным юношам. Величие же самого Гофмана состоит в том, что он, все это
перестрадав, сумел возвыситься над соблазнительной простотой такого объяснения, сумел понять, что
трагедия художника, не понятого толпой, может оказаться красивым самообманом и даже красивой
банальностью - если дать этому представлению застыть, окостенеть, превратиться в непререкаемую догму.
И с этой догматикой романтического самолюбования Гофман тоже воюет - во всяком случае, он истово,
бесстрашно ее анализирует, даже если приходится, что называется, резать по живому.
Его юные герои - все, конечно, романтические мечтатели и воздыхатели. Но все они изначально
погружены в стихию той ослепительной и вездесущей иронии, непревзойденным мастером которой был
Гофман. Когда в "Крошке Цахесе" влюбленный Бальтазар читает чародею Альпанусу свои стихи ("о любви
соловья к алой розе"), тот с уморительной авторитетностью квалифицирует этот поэтический опус как "опыт в
историческом роде", как некое документальное свидетельство, написанное к тому же "с прагматической
широтой и обстоятельностью". Ирония здесь тонка, как лезвие, а предмет ее - романтическая поэзия и поза.
Поистине, космическую сторону вещей от комической отделяет один свистящий согласный, как метко
скаламбурит позже Набоков.
Ирония преследует героев Гофмана, как
Немезида, до самого конца, даже до счастливой развязки. В том же "Крошке Цахесе" Альпанус, устроив
благополучное воссоединение Бальтазара с его возлюбленной Кандидой ("простодушной"!), делает им
свадебный подарок - "сельский дом", на приусадебном участке которого произрастает "отменная капуста, да
и всякие другие добротные овощи"; в волшебной кухне дома "горшки никогда не перекипают", в столовой не
бьется фарфор, в гостиной не пачкаются ковры и чехлы на стульях... Идеал, воплотившись в жизнь, по
лукавой воле Гофмана оборачивается вполне филистерским уютом, тем самым, которого чурался и бежал
герой; это после-то соловьев, после алой розы - идеальная кухня и отменная капуста! У других романтиков - у
того же Новалиса - герои обретали свою любовь (вкупе с тайной мироздания) по крайней мере в святилище
Исиды или в голубом цветке. А тут, пожалуйста, в повести "Золотой горшок" именно этот "заглавный" сосуд
предстает в качестве символа исполнившегося романтического стремления; снова кухонная атрибутика - как
и уже упоминавшиеся "бутылка арака, несколько лимонов и сахар" Энтузиастам предлагается варить в
обретенном ими дефицитном горшке то ли романтический пунш, то ли суп.
Правда, тут "грехи" гофмановских героев еще невелики, и от таких насмешек эти мечтатели ничуть не
становятся нам менее симпатичны; в конце концов, все эти авторские подковырки можно воспринять и как
ироническую символику непреступаемости земного предела: герои тяготятся цепями прозаического мира
"существенности", но сбросить их им не дано, даже и с помощью волшебства. Однако проблема тут не только
в земном пределе: Гофман метит именно в само романтическое сознание, и в других случаях дело принимает
гораздо более серьезный, роковой оборот.
В повести "Песочный человек"
(созданной, кстати, сразу вслед за "Эликсирами дьявола") ее герой Натанаэль - еще один юный
представитель клана "энтузиастов" - одержим паническим страхом перед внешним миром, и эта миробоязнь
постепенно приобретает болезненный, по сути, клинический характер. Невеста Натанаэля Клара пытается
образумить его: "...мне думается, что все то страшное и ужасное, о чем ты говоришь, произошло только в
твоей душе, а действительный внешний мир весьма мало к тому причастен... Ежели существует темная сила,
которая враждебно и предательски забрасывает в нашу душу петлю... то она должна принять наш
собственный образ, стать нашим "я", ибо только в этом случае уверуем мы в нее и дадим ей место в нашей
душе, необходимое ей для ее таинственной работы".
Не дать темным силам
места в своей душе - вот проблема, которая волнует Гофмана, и он все сильнее подозревает, что именно
романтически-экзальтированное сознание этой слабости особенно подвержено. Клара, простая и разумная
девушка, пытается излечить Натанаэля по-своему: стоит ему начать читать ей свои стихи с их "сумрачным,
скучным мистицизмом", как она сбивает его экзальтированность лукавым напоминанием, что у нее может
убежать кофе. Но именно потому она ему и не указ: она, выходит, убогая мещанка! А вот заводная кукла
Олимпия, умеющая томно вздыхать и при слушании его стихов периодически испускающая "Ах!", оказывается
Натанаэлю предпочтительней, представляется ему "родственной душой", и он влюбляется в нее, не видя, не
понимая, что это всего лишь хитроумный механизм, автомат.
Этот выпад, как
легко почувствовать, куда убийственней, чем насмешки над юношеским донкихотством Ансельма или
Бальтазара. Гофман, конечно, судит не целиком с "трезвых" позиций внешнего мира, в стан филистеров он не
переметнулся; в этой повести есть блистательные сатирические страницы, повествующие о том, как
"благомыслящие" жители провинциального городка не только принимают куклу в свое общество, но и сами
готовы превратиться в автоматы. Но первым-то начал ей поклоняться романтический герой, и не случайно
эта гротескная история кончается его подлинным сумасшествием. Причем на этот раз логика хозяйничанья
"темной силы" приводит уже и к преступной черте: лишь силой удерживают обезумевшего Натанаэля от
убийства Клары.
Это, конечно, "история болезни"; описываемое здесь
сознание неспособно к верному, тождественному восприятию мира, ибо оно, выражаясь по-современному,
романтически закомплексовано. В свое время гофмановский поворот проблемы очень верно описал наш
Белинский, высоко ценивший немецкого писателя: "У Гофмана человек бывает часто жертвою собственного
воображения, игрушкою собственных призраков, мучеником несчастного темперамента, несчастного
устройства мозга".
Для ортодоксальных романтиков гений - нечто
самодовлеющее, не требующее обоснований и оправданий. Гофман же не столько противопоставляет
творческую жизнь жизни прозаической, сколько сопоставляет их, анализирует художественное сознание в
непременной соотнесенности с жизнью. В этом, кстати, суть напряженной эстетической дискуссии, которая
образует пространные промежуточные "сочленения" в цикле новелл "Серапионовы братья".
И в этом же глубинный смысл последнего крупного гофмановского произведения, знаменитого
романа о капельмейстере Крейслере и коте Мурре.
Фантом раздвоения, всю
жизнь преследовавший его душу и занимавший ум, Гофман воплотил на этот раз в неслыханно дерзкую
художественную форму, не просто поместив два разных жизнеописания под одной обложкой, но еще и
демонстративно их перемешав. При всем при том оба жизнеописания отражают одну и ту же эпохальную
проблематику, историю гофмановского времени и поколения, то есть один предмет дается в двух разных
освещениях, интерпретациях. Гофман подводит тут итог; итог неоднозначен.
Исповедальность романа подчеркивается прежде всего тем, что в нем фигурирует все тот же Крейслер. С
образа этого своего литературного двойника Гофман начинал - "Крейслериана" в цикле первых "Фантазий", -
им и кончает.
В то же время Крейслер в этом романе - отнюдь не герой.
Как предупреждает сразу издатель (фиктивный, конечно), предлагаемая книга
есть именно исповедь ученого кота Мурра; и автор и герой - он. Но при подготовке книги к печати, сокрушенно
поясняется далее, произошел конфуз: когда к издателю стали поступать корректурные листы, он с ужасом
обнаружил, что записки кота Мурра постоянно перебиваются обрывками какого-то совершенно другого
текста! Как выяснилось, автор (то есть кот), излагая свои житейские воззрения, по ходу дела рвал на части
первую попавшуюся ему в лапы книгу из библиотеки хозяина, чтобы использовать выдранные страницы
"частью для прокладки, частью для просушки". Разделанная столь варварским образом книга оказалась
жизнеописанием Крейслера; по небрежности наборщиков эти страницы тоже напечатали.
Жизнеописание гениального композитора как макулатурные листы в кошачьей биографии! Надо
было обладать поистине гофмановской фантазией, чтобы придать горькой самоиронии такую форму. Кому
нужна жизнь Крейслера, его радости и печали, на что они годятся? Разве что на просушку графоманских
упражнений ученого кота!
Впрочем, с графоманскими упражнениями все не так
просто. По мере чтения самой автобиографии Мурра мы убеждаемся, что и кот тоже не лыком шит и отнюдь
не без оснований претендует на главную роль в романе - роль романтического "сына века". Вот он, ныне
умудренный и житейским опытом, и литературно-философскими штудиями, рассуждает в зачине своего
жизнеописания: "Как редко, однако, встречается истинное сродство душ в наш убогий, косный, себялюбивый
век!.. Мои сочинения, несомненно, зажгут в груди не одного юного, одаренного разумом и сердцем кота
высокий пламень поэзии... а иной благородный кот-юнец всецело проникнется возвышенными идеалами
книги, которую я вот сейчас держу в лапах, и воскликнет в восторженном порыве: "О Мурр, божественный
Мурр, величайший гений нашего достославного кошачьего рода! Только тебе я обязан всем, только твой
пример сделал меня великим!" Уберите в этом пассаже специфически кошачьи реалии - и перед вами будут
вполне романтические стиль, лексикон, пафос.
Изобразить романтического
гения в образе вальяжно-разнеженного кота - уже сама по себе очень смешная идея, и Гофман всласть
использует ее комические возможности. Конечно, читатель быстро убеждается, что по натуре своей Мурр
типичный филистер, он просто научился модному романтическому жаргону. Однако не столь уж безразлично и
то, что он рядится под романтика с успехом, с незаурядным чувством стиля! Гофман не мог не знать, что
таким маскарадом рискует скомпрометировать и сам романтизм; это риск рассчитанный.
Вот мы читаем "макулатурные листы" - при всей царящей и тут "гофманиане" печальную повесть
жизни капельмейстера Крейслера, одинокого, мало кем понимаемого гения; взрываются вдохновенные то
романтические, то иронические тирады, звучат пламенные восклицания, пылают огненные взоры - и вдруг
повествование обрывается, подчас буквальна на полуслове (кончилась выдранная страница), и те же самые
романтические тирады упоенно бубнит ученый кот: "...я твердо знаю: моя родина - чердак! Климат отчизны,
ее нравы, обычаи, - как неугасимы эти впечатления... Откуда во мне такой возвышенный образ мыслей, такое
неодолимое стремление в высшие сферы? Откуда такой редкостный дар мигом возноситься вверх, такие
достойные зависти отважные, гениальнейшие прыжки? О, сладкое томление наполняет грудь мою! Тоска по
родному чердаку поднимается во мне мощной волной! Тебе я посвящаю эти слезы, о прекрасная родина..."
Для немецкого читателя той поры в одном этом пассаже был краткий курс
истории современной литературы и общественной мысли; стремление в высшие сферы как на свою отчизну -
это иенские романтические эмпиреи ("Если ваш взор будет неотрывно устремлен к небу, вы никогда не
собьетесь с пути на родину", - так напутствовал отшельник Генриха фон Офтердингена); идеализация
родимого чердака - это уже гейдельбергское германофильство.
Поначалу от
этой иерархии иронии может закружиться голова. Но демонстративная, прямо чуть ли не буквальная
разорванность романа, его внешний повествовательный сумбур (опять: то ли феерия фейерверка, то ли
круговерть карнавала) композиционно спаяны намертво, с гениальным расчетом, и его надо осознать.
С первого взгляда может показаться, что параллельно идущие жизнеописания
Крейслера и Мурра суть новый вариант традиционного гофмановского двоемирия: сфера "энтузиастов"
(Крейслер) и сфера "филистеров" (Мурр). Но уже второй взгляд эту арифметику усложняет: ведь в каждой из
этих биографий, в свою очередь, мир тоже разделен пополам, и в каждой есть своя сфера энтузиастов
(Крейслер и Мурр) и филистеров (окружение Крейслера и Мурра). Мир уже не удваивается, а учетверяется -
счет тут "дважды два"!
И это очень существенно меняет всю картину. Вычлени
мы эксперимента ради линию Крейслера - перед нами будет еще одна "классическая" гофмановская повесть
со всеми ее характерными атрибутами; вычлени мы линию Мурра - будет "гофманизированный" вариант
очень распространенного в мировой литературе жанра сатирической аллегории, "животного эпоса" или басни
с саморазоблачительным смыслом (скажем, типа "Премудрого пискаря"). Но Гофман смешивает их,
сталкивает, и они непременно должны восприниматься только во взаимном отношении.
Это не просто параллельные линии - это параллельные зеркала. Одно из них - мурровское -
ставится перед прежней гофмановской романтической структурой, снова и снова ее отражает и повторяет.
Тем самым оно, это зеркало, неминуемо снимает с истории и фигуры Крейслера абсолютность, придает ей
мерцающую двусмысленность. Зеркало получается пародийным, "житейские воззрения кота Мурра" -
ироническим парафразом "музыкальных страданий капельмейстера Крейслера".
Роман о Мурре и Крейслере - грандиозный памятник пристрастного, кровного расчета с романтизмом и
его верой во всесилие поэтического гения. Один из самых пылких апологетов искусства, Гофман в то же
время не удовлетворяется романтическим тезисом, что оно - панацея от всех бед. Его художники несчастны
не только оттого, что филистерский мир их не понимает и не принимает, но и оттого, что они сами не могут
найти "адекватного сознания", естественной и благотворной связи с реальным миром. Искусственно
сконструированный искусством мир - тоже не выход для души, уязвленной неустроенностью человеческого
бытия.
* * *
Но Гофману ли приписывать
оправдание земного бытия? Ему ли, создавшему, как никто другой, убийственный паноптикум филистерского
ничтожества?
Однако и здесь все не так однозначно. Было бы величайшей
несправедливостью по отношению к Гофману заподозрить его в элитарном высокомерии. Художниками
рождаются, а филистерами становятся. И он, изощреннейший насмешник, карает пороки не врожденные, а
благоприобретенные. Человек может или не может посвятить себя служению музам - но посвящать себя
служению Мамоне он не должен, гасить в себе "божественную искру" не должен. Именно тогда происходит в
нем необратимое извращение человечности.
В "Песочном человеке" уже
упоминавшаяся история о том, как в "благомыслящем обществе" механическая кукла стала
законодательницей зал, описана пером блестящего юмориста. Чего стоят одни только резюмирующие
замечания Гофмана об атмосфере, установившейся в этом обществе среди "высокочтимых господ" после
обнаружения обмана с манекеном: "Рассказ об автомате глубоко запал им в душу, и в них вселилась
отвратительная недоверчивость к человеческим лицам. Многие влюбленные, дабы совершенно
удостовериться, что они пленены не деревянной куклой, требовали от своих возлюбленных, чтобы те слегка
фальшивили в пении и танцевали не в такт... а более всего, чтобы они не только слушали, но иногда говорили
и сами, да так, чтобы их речи и впрямь выражали мысли и чувства. У многих любовные связи укрепились и
стали задушевней, другие, напротив, спокойно разошлись". Это все, конечно, очень смешно, но в
иронико-сатирической аранжировке здесь предстает очень серьезная социальная проблема: механизация и
автоматизация общественного сознания.
В "Крошке Цахесе" тоже смешна
история мерзкого уродца, с помощью полученных от феи волшебных чар околдовавшего целое государство и
ставшего в нем первым министром, - но идея, легшая в ее основу, скорее страшна: ничтожество захватывает
власть путем присвоения (отчуждения!) заслуг, ему не принадлежащих, а ослепленное, оглупленное общество,
утратившее все ценностные критерии, уже не просто принимает "сосульку, тряпку за важного человека", но
еще и в каком-то извращенном самоизбиении из недоумка творит кумира.
Гофмановский паноптикум при ближайшем рассмотрении - больной социальный организм; увеличительное
стекло сатиры и гротеска высвечивает в нем пораженные места, и то, что в первый момент казалось
ошеломительным уродством и вызовом здравому смыслу, в следующий момент осознается как неумолимость
закона.
Ирония и сатира Гофмана в таких пассажах, конечно, убийственны, но
странное дело: в них в то же время нет ни малейшей ноты брезгливого презрения, нет злорадства - зато
постоянно слышима и ощутима та боль, что прозвучала позже в знаменитом гоголевском восклицании: "И до
такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек! мог так измениться!"
Более того: Гофман действительно не рад этому своему дару видеть все будто сквозь увеличительное
стекло, и он оставил этому недвусмысленное свидетельство.
В поздней
повести "Повелитель блох" (где, как мы помним, средствами гротеска тоже вскрывается серьезная
общественная проблема - злоупотребление правопорядком со стороны официальных представителей закона)
герой ее, Перегринус Тис, получает от "своего" волшебника чудесное увеличительное стекло, позволяющее
ему читать у людей в мыслях. И он недолго пользуется возможностью "видеть насквозь" - он не выдерживает:
"...я беру несчастное стекло - и мрачное недоверие наполняет мне душу; в несправедливом гневе, в безумном
ослеплении я отталкиваю от себя истинного друга, и все глубже и глубже ядовитое сомнение подтачивает
самые корни жизни и вносит раздор в мое земное бытие, отчуждает меня от меня самого. Нет!.. Прочь, прочь
этот злополучный дар!"
Перегринус отрекается от волшебного стекла - потому
что оно, как говорит он тут же, способно истребить в душе все следы "воистину человеческого начала,
выражающегося в сердечной доверчивости, кротости и добродушии". Гофман от своего дара не отрекается;
одновременно с "Повелителем блох" он работает над вторым томом "Кота Мурра". Мы видели, какое стекло
направлено на душу капельмейстера Крейслера: оно не истребляет в ней "человеческого начала", но
правдиво фиксирует нежелательные его искривления. То же стекло направлено на крейслеровских
антагонистов - общество при дворе князя Иринея: оно правдиво фиксирует нежелательные искривления в них
человеческого начала, но его не истребляет.
Советница Бенцон в романе -
придворная интриганка, мечтающая отдать свою дочь Юлию, любовь и мечту Крейслера, в жены наследнику
карликового иринеевского престола принцу Игнатию; принц слабоумен - по деликатно-сочувственной формуле
Гофмана, "обречен на вечное детство" (и эта деликатность, отметим попутно, не только ирония - Гофман в
самом деле сочувствует принцу, поручая "по сюжету" это сочувственное отношение именно Юлии, своей
"положительной" героине). Так вот, госпожу Бенцон маэстро Абрахам, защищая своего подопечного и любимца
Крейслера, не без оснований упрекает в том, что у нее "оледеневшее навеки сердце, где никогда и не
теплилась искра". "Вы не переносите Крейслера, - продолжает он, - потому что вам не по нутру его
превосходство над вами... вы сторонитесь его как человека, чьи мысли направлены на более высокие
предметы, чем это принято в вашем маленьком мирке".
Мы вернулись к тому, с
чего начинали. Двоемирие: энтузиаст - филистеры. Вслушаемся теперь в ответ госпожи Бенцон.
"Маэстро, - глухо произнесла Бенцон... - ты говоришь, оледенело мое сердце? А знаешь ли
ты, слышало ли оно когда-нибудь приветливый голос любви и не нашла ли я утешенье и покой только в тех
условностях, что так презирал необузданный Крейслер? И не думаешь ли ты, старик, тоже испытавший
немало страданий, что стремление возвыситься над этими условностями и приобщиться к мировому духу,
обманывая самого себя, - опасная игра? Я знаю, холодной и бездушной прозой во плоти бранит меня
Крейслер, и ты только повторяешь его мысли, называя меня оледеневшей; но проникали ли вы когда-нибудь
сквозь этот лед, который уже издавна стал для меня защитным панцирем?"
Маэстро не спустит, не оплошает, он защитит Крейслера и свою с ним общую позицию новыми аргументами,
но это уже не важно. Важно то, что у другой стороны двоемирия есть, оказывается, тоже своя правота! Одни -
"энтузиасты", другие - "филистеры", но все - человеки; вернулся даже и "защитный панцирь" - он привилегия
(или рок?) не только "энтузиастов".
"Двоемирие" пронзительней всего воплотил
в искусстве слова именно Гофман; оно его опознавательный знак. Но Гофман не фанатик и не догматик
двоемирия; он его аналитик и диалектик.
* * *
Мы
подошли к самой сокровенной и самой немудреной тайне Гофмана. Его неспроста преследовал образ
двойника. Он до самозабвения, до безумия любил свою Музыку, любил Поэзию, любил Фантазию, любил Игру
- и он то и дело изменял им с Жизнью, с ее многоликостью, с ее и горькой и радостной прозой. Еще в 1807
году он написал своему другу Гиппелю - как бы оправдываясь перед самим собой за то, что выбрал себе в
качестве основного не поэтическое, а юридическое поприще: "А главное, я полагаю, что, благодаря
необходимости отправлять, помимо служения искусству, еще и гражданскую службу, я приобрел более
широкий взгляд на вещи и во многом избежал эгоизма, в силу коего профессиональные художники, с
позволения сказать, столь несъедобны".
(Гражданская служба, помогающая
избежать эгоизма... Юридическая тема "Повелителя блох" возникла из реальной ситуации: служа в Берлине в
должности советника апелляционного суда и будучи в 1819 году назначен членом "высочайшей следственной
комиссии по выявлению антигосударственных группировок и других опасных происков", Гофман выступил
мужественным правозащитником в схватке с высокопоставленными нарушителями закона. Борьба
продолжалась и в связи с публикацией "Повелителя блох" - на этот раз борьба еще и с цензурой.)
Гофмановский "более широкий взгляд на вещи" оказывается предельно прост.
Друзья-рассказчики в "Серапионовых братьях", поупражнявшись в самых разных манерах повествования, в
конце концов выражают недоверие всякой чрезмерности, необузданности, "возбужденности" воображения. И
вот почему: "Основание небесной лестницы, по коей хотим мы взойти в горние сферы, должно быть
укреплено в жизни, дабы вслед на нами мог взойти каждый. Взбираясь все выше и выше и очутившись
наконец в фантастическом волшебном царстве, мы сможем тогда верить, что царство это есть тоже
принадлежность нашей жизни - есть в сущности не что иное, как ее неотъемлемая, дивно прекрасная часть".
Здесь описана режиссерская концепция гофмановского мирового театра. А вот
и ее "сверхзадача" - в последних строках "Серапионовых братьев": "Наипервейшее условие всякого
творчества и мастерства есть та добрая непритязательность, которая единственно и способна согреть
сердце и дать благотворное побуждение духу".
"Согреть сердце"... Наверное,
об этих строках подумал позже немецкий писатель Виллибальд Алексис, когда написал о Гофмане: "Проживи
он подольше - и его субъективный пламень превратился бы в тепло объективности".
Гофман не успел прожить подольше - но успел высказать все, что хотел. В уже упоминавшейся новелле
"Угловое окно" ее умирающий герой - "сочинитель... отличавшийся особой живостью фантазии", - говорит
своему кузену, понадеявшемуся было, что больной все-таки выздоровеет: "Ты, чего доброго, думаешь, что я
уже поправляюсь или даже совсем поправился от моих недугов? Отнюдь нет... Но вот это окно - утешение для
меня: здесь мне снова явилась жизнь во всей своей пестроте, и я чувствую, как мне близка ее никогда не
прекращающаяся суетня. Подойди, брат, выгляни в окно!"
Так позвал нас
перед своим уходом Гофман. Но, прежде чем начать знакомство с его житейскими и прочими воззрениями,
прежде чем распахнуть окно в этот мир, загляните, читатель, еще раз в открывающий статью эпиграф из
Гофмана - и, чтоб совсем уж свыкнуться с причудливым этим языком, имейте в виду, что в цитированном
гофмановском тексте есть еще и такие слова:
"- Да, позволь услышать твой
голос, и я с быстротой юноши побегу на сладостный звук его, пока я тебя не найду, и мы снова будем жить
вместе и в волшебном содружестве займемся высшей магией, к которой волей-неволей приближаются все,
даже обыкновенные люди, вовсе не веря в нее...
Произнеся это, маэстро с
юношеской быстротой и живостью запрыгал по комнате, завел машины, установил магические зеркала. И во
всех углах все ожило и задвигалось: манекены зашагали и завертели головами, и механический петух
захлопал крыльями и закукарекал, а попугаи пронзительно затараторили..."
Вот
теперь - читайте Гофмана.