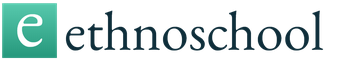Эрик Булатов, классик второго авангарда, рассказывает о родителях и Свердловске, об эвакуации и о том, как начинал рисовать, об учителях, Фаворском и Фальке, книжной иллюстрации и принципах своей работы.
Эрик Булатов, классик соц-арта, живущий в Париже, во время недолгого пребывания в новогодней Москве рассказал Елене Калашниковой о своих родителях и детстве, учителях и Суриковском училище, о том, как тридцать лет совмещал иллюстрирование книг для детей с живописью. «О чём может мечтать художник, который делает то, что считает нужным, и так, как считает нужным?..»
Вы родились в Свердловске 5 сентября 1933 года. В одном интервью вы сказали: «Мой отец почему-то очень верил в то, что я буду художником. Он погиб на фронте, когда мне ещё не было восьми лет». Расскажите о своей семье.
- Тут надо уточнить: отец ушёл на фронт в 1941-м, когда мне не было восьми, а погиб в 1944-м. Он был профессиональный партийный работник.
- Как его звали?
- Владимир Борисович. Он родом из Саратова, потом с родителями перебрался в Москву. В 1918-м вступил в партию, сразу после гимназии ушёл на Гражданскую войну, что стало трагедией для семьи. В 1937-м его исключили из партии, и всё шло к аресту. Но тут моя мать сделала простую, но очень эффективную вещь. Сняла под Москвой дачу, и отец там примерно полгода жил.
Он не был крупным политическим деятелем, поэтому властям не нужно было именно его арестовать. На каждый район была развёрстка - взять столько-то, но если этого нет, возьмём другого. Как в армию набирали, примерно так же.
Когда эта кампания кончилась и отец объявился, его не тронули, восстановили в партии, но он не вернулся на партийную работу. У него было высшее образование, и он пошёл работать учёным секретарём в Большую советскую энциклопедию.
- А почему вы в Свердловске родились?
- Отец ездил в командировку на Урал, беременная мать поехала с ним, я там родился, а потом они вернулись.
Мать у меня была натура романтическая и очень активная. Родилась в Польше, в Белостоке. В пятнадцать лет нелегально перешла границу: Россия - свобода, революция...
Её поймали на границе, вернули, но в конце концов она оказалась в России, не зная русского языка, у неё был идиш и польский. Но через три года она настолько освоила русский, что уже работала стенографисткой. Сначала год или два, кажется, в Каменец-Подольском, потом в Москве.
Последние годы была стенографисткой в президиуме Московской коллегии адвокатов. Мама была очень одарённым человеком и в 1920-е годы даже сдала актёрский экзамен на киностудии.
Был там такой педагог Роом (не Ромм). Прошла сумасшедший конкурс, но работать там не стала, ей было достаточно того, что она прошла конкурс.
Она была настроена против генеральной линии партии, против всякой власти, типичное интеллигентское сознание. Она должна была быть и против отца, их взгляды во многом были противоположны, но они очень любили друг друга.
Позже мать перепечатывала запрещённые тексты: Пастернака, Цветаеву, Мандельштама… Всего «Доктора Живаго».
- Участвовала в самиздате.
- В самиздате, вот-вот. Печатала на машинке в основном художественные, не политические тексты, но тем не менее запрещённые. Это я к тому, что мои родители были очень разными.
- Кто из них был вам ближе?
- Трудно сказать. Я был слишком маленьким, чтобы выбирать. Моё счастливое детство кончилось с началом войны, кошмар продолжался, пока я не поступил в художественную школу. Потом пошла нормальная жизнь.
Сколько себя помню, я рисовал, и рисовал хорошо. Тогда было ещё рано судить, что из этого может получиться. Это определяется годам к десяти-двенадцати, но отец поверил, что я буду художником.
- Что это были за рисунки? Портреты, зарисовки с натуры, пейзажи?..
- Как ни странно, кое-что из них осталось. В основном это были композиции. Руслан с Рогдаем дерутся, сражения, всадники, что-то такое… Интересные были композиции. Но я что-то и срисовывал.
- Это ваша мама сохранила рисунки?
- Наверное, даже не знаю. У меня в мастерской есть один из тех альбомов. Случайно остался, не думаю, что его специально хранили. В основном рисунки того периода пропали.
Когда мы уехали в эвакуацию, те, кого вселили в нашу квартиру, топили печку книгами. Начали с нижних полок, где были мои детские книжки и рисунки, а наверху стояли книги Ленина и Маркса. Они, естественно, начали не с Маркса, да и лазить туда было далеко…
- А в эвакуации вы где жили?
- В эвакуацию мы поехали вместе с Художественным театром, потому что сестра отца была замужем за актёром Художественного театра. Мы жили одной семьёй. Родители отца жили с дочерью, до женитьбы и отец жил вместе с ними, а потом получил квартиру. Мать вместе с ними оказалась в эвакуации - вначале в Саратове, потом в Свердловске.
- А отец ушёл на войну добровольцем?
- Да, сразу, как война началась.
Получилось довольно глупо. Сначала мама показывала мои рисунки разным художникам, даже Корину. Корин и другие говорили, что не нужно меня никуда отдавать, меня там могут испортить, что-то в этом роде, в общем, рано ещё.
В художественную школу принимают после пятого класса общеобразовательной. Я не знал, что есть такая школа, и узнал о ней случайно. В параллельном классе учился мой сверстник, который тоже рисовал, мы с ним конкурировали.
Как-то он мне сказал, что поступает в художественную школу, там экзамены, но он уверен, что пройдёт. Я был потрясён, узнав, что есть такая школа, побежал туда, но оказалось поздно - экзамены прошли, а новых год ждать.
Мне посоветовали подготовиться в Доме пионеров. Два года я занимался в кружке рисования у Александра Михайловича Михайлова, которого вспоминаю с любовью и благодарностью.
Хороший педагог и человек очаровательный, я потом поддерживал с ним отношения. На следующий год я пытался поступить во второй класс художественной школы, но не прошёл по конкурсу.
В 1947 году меня приняли в третий класс. Потом как-то само собой поступил в Суриковский институт, на живописный факультет. Поскольку школу я окончил с медалью, вступительные экзамены держать не пришлось.
- А у кого вы учились?
- У Петра Дмитриевича Покаржевского, был такой профессор. На первом курсе у нас был один педагог, потом другой, но так получилось, что со второго курса я учился у Петра Дмитриевича, с которым у меня тоже были очень хорошие отношения.
В художественной школе мы рисовали как сумасшедшие, работали с утра до ночи и ни о чём другом не думали. Там учились дети привилегированных и обычных людей, но для нас это не имело значения, делились только на бездарных и талантливых.
А в Суриковском была мрачная, затхлая, провинциальная атмосфера, время было тяжёлое - конец 1940-х - начало 1950-х. Смерть Сталина…
- Борьба с космополитизмом.
- Да, и окончательный разгром искусства.
- Интересные люди учились вместе с вами?
- Друзья у меня были из художественной школы. Прежде всего Олег Васильев, с которым мы всю жизнь дружим, несколько человек из класса, с которыми я до сих пор поддерживаю самые близкие и дружеские отношения. В институте отношения ни с кем не сложились.
После смерти Сталина в Суриковском довольно быстро начала меняться атмосфера, как и вообще в культуре.
Вы говорили о том, что после института вы переучивались, «вырабатывая - во многом под влиянием Роберта Фалька и Владимира Фаворского - стойкую самостоятельность по отношению к официальной соцреалистической доктрине». Расскажите об этом подробнее.
- Во время обучения мы сталкивались с искусством, которое раньше было запрещено, которого я не понимал и не чувствовал. Фальк и Фаворский помогали понимать, осваивать своё ремесло, что для меня было неоценимой помощью, в институте я этого не мог получить.
Для того чтобы объяснить, чем я обязан Фаворскому, а чем - Фальку, должен быть серьёзный разговор. Я об этом много писал и говорил, недавно вышла книжка моих теоретические статей «Живу дальше», где есть много на эту тему.
Я хотел стать серьёзным, настоящим художником, поэтому мне приходилось переучиваться. Полученного образования было недостаточно.
К концу института я понял, что не должен зависеть от заказов государства не потому, что изначально собирался быть антисоветским художником, я ещё сам не знал, каким художником буду, но для того, чтобы свободно развиваться.
Все средства к существованию были в руках государства, частных заказов не могло быть. Значит, в живописном деле надо было искать другой способ зарабатывать деньги, чтобы он оставлял время для моей непосредственной работы.
И вы стали заниматься детской иллюстрацией. Знаю, у вас был график: полгода книжная иллюстрация, полгода - картины.
- Совершенно верно. Светлое время, весну - лето, оставлял на живопись, а тёмное, осень - зиму, - на книжки. Работали над книжками мы вдвоём с Олегом Васильевым.
- Почему именно с ним?
- Мы с Олегом были близки по взглядам, всё время общались и друг в друге нуждались, поэтому объединились в работе.
- В советское время для художника только иллюстрация детских книг была тихой гаванью?
- Некоторые выполняли заказные декоративные работы в живописном комбинате. Но большинство ушло в детскую книжку. Это был наиболее безвредный способ сотрудничества с государством. К тому же из всех видов изобразительного искусства в ней был наиболее высокий профессиональный уровень.
Многие хорошие художники ушли в детскую книжку ещё в 1930-е, когда начался разгром живописи. Поэтому там сохранилась культура и традиции.
- Для вас были какие-то примеры в книжной иллюстрации?
- Конечно. Мы очень много смотрели, у меня целая библиотека детских книг. Самым нашим любимым художником был Юрий Васнецов. Кстати, ученик Малевича. В детскую книжку его вытеснили. Для русской книги большая удача, что в ней работали такие художники, но для нашего искусства это, безусловно, потеря.
- Что нравится вам больше всего из тех своих работ?
- Даже не знаю. Из сказок Перро лучше всего получилась «Золушка», «Дикие лебеди» Андерсена, «Бабушка Вьюга» братьев Гримм. Интересно было работать над сборником «Путешествие в сказку», в котором собраны европейские и азиатские сказки.
- Ограничивали ли вашу фантазию в детской иллюстрации, или никакого давления вы не ощущали?
- Работая в издательстве, ты должен принять определённые требования. Тут как в шахматах: внутри правил масса возможностей для фантазии, но конь ходит так, а ладья эдак, и ничего не сделаешь.
Вы не возвращаетесь к тем книжкам? Они не могут стать для вас источником вдохновения? Или это закрытая страница?
- Да, это закрытая страница. Это не моя и не Васильева работа, а третьего художника по фамилии Булатов и Васильев, сейчас его просто нет.
Когда вы приступаете к работе, в голове у вас уже есть идея, или она рождается в процессе работы, или трансформируется?.. Как обычно бывает?
- Как правило, трансформироваться не может. У меня в голове не идея, а образ, я должен найти адекватную форму для его выражения. Этот процесс может быть сложным и тянуться долго. Иногда на это уходило несколько лет, а одна картина не получалась больше десяти лет. Она не была похожа на изначальный образ, я никак не мог понять, в чём дело.
- Что это за работа?
- «Зима». Белое снежное поле, а из-за горизонта на нас движется довольно страшная чёрная туча. Я написал картину, она была даже выставлена и продана, но результат мне не нравился и я продолжал об этом думать. Закончилось всё в 1997-м, а началось в 1978-м.
Когда полгода я делал книжки, а полгода - живопись, то не всегда успевал закончить картину, а тут надо переключаться на другую работу, которая требует иного сознания и отношения. Эти переходы всегда были трудными.
- Вы не могли на время вернуться к живописи?..
- Нет-нет.
- То есть закрывали дверь в другую половину жизни, словно отрезали её?
- Да, совершенно. И у меня развилась способность консервировать в сознании тот или иной образ. За полгода он не должен был меняться, надо было вернуться к тому месту, на котором я прервал работу. Возможно, этот подход был мне свойственен, но он, безусловно, развился благодаря такому способу работы.
- Вы для себя что-то записывали, уходя на полгода в другую работу?
- Зачем?! Всё на картине. Рисование и было записью.
На протяжении всех тридцати лет переход от живописи к иллюстрации и обратно всегда был для вас сложен или со временем вы к этому привыкли?
- Всегда, ведь один художник писал картины, другой делал иллюстрации. Ты включаешься в иной принцип мышления. Книжки мы делали вдвоём, а в живописи я совершенно свободен и должен был забыть сознание, которое было у меня вчера. Когда кончалась наша книжная работа, мы с Олегом забирались в лес. С рюкзаками, с палаткой. Ходили два-три дня или неделю и возвращались с чистым, как белая страница, сознанием. Можно было начинать новую жизнь.
- Уничтожали ли вы свои работы?
- Конечно. Жалею, что уничтожил не все неудачные. То, что картина неудачна, обычно понимаешь, когда она окончена.
- И много таких работ?
- Нет, у меня их вообще немного.
- Когда вы понимаете, что работа удалась?
- В тот момент, когда узнаю образ. Это идеальный вариант. Но бывает случаи, когда картина вроде бы и кончена, но что-то в ней не так. В таком случае надо её отставить, через какое-то время вносишь в неё добавления, и она закончена.
- Спустя годы вы можете внести изменения в свои работы?
- Очень редко, обычно нет. А сейчас это тем более невозможно - они от меня уходят.
- «Отпускают» ли вас уже готовые картины?
- Картина не отпускает, если не получилась, что-то в ней не выразилось. А если получилась, я от неё освобождаюсь.
В интервью вы говорили о том, что в советское время искусствоведы в вашу мастерскую не заходили. Почему, как вы думаете? Хотя это вопрос, конечно, не к вам.
- Об этом надо их спросить. Мне это самому интересно. Как человек, считающий себя порядочным, может вести себя таким образом?..
- У коллег, близких вам, они бывали? У Олега Васильева?
- Нет, нет. Наши с Олегом Васильевым мастерские были рядом, и если кто-то был у одного, то обязательно был и у другого.
- У Кабакова же бывали.
- Безусловно. У Кабакова, Янкилевского, Штейнберга…
- Почему всё-таки они у вас не появлялись?
- Мы со многими искусствоведами и критиками были знакомы, встречались в компаниях, мило беседовали, но никто из них никогда не поинтересовался тем, что я делаю. Может, боялись, считали, что это политическое дело и лучше не связываться, а то будут неприятности по службе. Думаю, они меня списывали в том смысле, что это не искусство, а политика. Так себе объясняли, хотя не видели того, что я делал. А может, это объяснение я себе придумал.
- «Теперь от социальных проблем я ушёл к экзистенциальным. Только не надо это списывать на то, что я уехал». Почему произошёл этот переход?
- Во-первых, это, наверное, возрастные дела. Во-вторых, стараешься понять и своё сознание, и мир вокруг. Заглянуть за горизонт: а что там?.. Мои интересы были ограничены социальным пространством, потом мне открылся горизонт экзистенциальный, который включает в себя социальные пространства.
- Ваши выставки проходят в разных странах. А где зрители лучше всего реагируют на ваши картины?
- Последние годы мне везёт. С 2005-го было несколько моих выставок, и все очень удачные - экспозиции хорошие, реакция зрителей… В Германии, Москве, Париже, сейчас в Женеве. В женевском Музее современного искусства тоже ретроспектива, но не такая большая, как в Москве.
- Свои персональные выставки вы сами выстраиваете?
- В Третьяковке - да, а в Германии, Париже и Женеве всё делалось без меня и как-то очень хорошо. В Женеве сделали замечательную экспозицию, совершенно не так, как я бы сделал, но явно лучше. Я вижу интерес к своим работам, они привлекают внимание людей. Может, в России был наибольший интерес к ним… а может, и нет. Не чувствую себя обиженным ни там, ни здесь.
- Вы могли бы охарактеризовать своего зрителя? Это чаще молодые люди?
- Да, совершенно точно, молодые. Меня очень радует, что им это интересно и что они воспринимают мои работы не как прошлое, а как нечто живое.
- После открытия вы ходите на свои выставки?
- Хватит и одного раза. Мне потом рассказывают, как всё проходит. Если выставка в Париже или Москве, я могу второй или третий раз на неё пойти, если знакомые просят, чтобы я им её показал.
У меня нет убеждённости, что на выставку больше одного раза ходить не надо, но после первого раза интереса к ней у меня нет. Увидел, как висят работы, как они воспринимаются зрителями, спасибо, хватит, у меня есть и другие дела.
- «Для меня смотрение - работа, я быстро устаю. Но утомление бывает связано и с очень счастливыми переживаниями». Можете рассказать об этом подробнее?
- Смотреть на картину для меня почти то же самое, что её делать. Для того чтобы понять художника, оценить его работу, надо влезть в его шкуру.
Судить о художнике нужно с его позиций. Индивидуальность каждого ограниченна, а если не ограниченна, значит это отсутствие индивидуальности, расплывчатые края, это никому не нужно и не интересно.
Чем талантливее человек, тем очевиднее его индивидуальность, ограниченность. Поэтому нужно понять его субъективную позицию, тогда вы можете объективно оценить, что у него вышло, а что нет. Это требует усилий.
Есть художники, которые мне близки, изучать их работы можно без особых усилий, а есть те, кто совсем не близок, перевоплощение в них требует больших затрат внимания.
С годами я перестал тратить энергию на тех, кто не близок, не берусь их судить, но не потому, что осуждаю. Часто, когда говорят «не понимаю», имеют в виду, что и понимать тут нечего. Когда я говорю «не понимаю», тут нет негативной оценки.
Картину надо рассмотреть и разобрать, как архитектуру. Для меня это важная и серьёзная работа. Обычно в музее я смотрю две-три, может, четыре картины, на большее меня не хватает. Это занимает где-то часа полтора.
- Три года назад вы говорили, что в России не так много ваших работ. С тех пор что-то изменилось?
- Да, мои работы стали покупать на аукционах русские коллекционеры, так что картины разных периодов возвращаются в Россию. Работы последнего времени приобретают больше западные коллекционеры, потому что я работаю с немецкими, швейцарскими, французскими галереями.
Думаю, понятно, почему вещи 1970-1980-х покупают именно русские. Социальные темы, поднятые в них, тут должны быть понятнее и ближе.
- Картин на социальные темы, в которых было выражено время, в России не было. Может, вы правы и это действительно так.
В 2007 году вы сказали: «Вообще для современного художника я нетипично мало сделал - примерно 150 работ». С тех пор эта цифра увеличилась?
- В год делаю примерно три картины. Может быть и четыре, и пять, и две, как повезёт. Если долго работаю над картиной, в год выходит не больше двух, а бывает, легко и быстро делаю несколько работ. Тут нет заданности и правила, просто я работаю медленно.
По вашим словам, у вас нетипично для современного художника мало работ, ваши коллеги обычно делают работы сериями. Но и у вас же есть серии.
- Да, есть. Но они возникали сами собой, не задумывались как серии. У одной темы были разные варианты решения.
- Если бы вы писали творческую самохарактеристику, то что бы там было?
- Я написал о себе несколько статей, есть они и в книжке «Живу дальше». Там я рассматриваю своё творчество с разных точек зрения. В каталоге моей выставки, которая проходила в Третьяковской галерее, есть статья «Моя картина и массмедиальная продукция». Там я пытаюсь высказаться на эту тему. Что-то вроде этого я и пытался написать о работе с пространством картины, о том, что сделал для картины как таковой. Думаю, я выразил возможности, которые раньше не использовались, были незамечены или неизвестны.
- А про работу со светом?
- Свет невозможен без пространства. Последние годы я всё больше и больше работаю со светом.
- А какие свои основные картины вы бы назвали?
- Основные картины были на каждом этапе, я их неоднократно называл: «Горизонт», «Слава КПСС», «Иду», «Заход солнца», «Живу - вижу», «Как идут облака - как идут дела», «Хотелось засветло, ну не успелось», «Точка»… Картины, которые появились после показа в Третьяковке, - «День-ночь», «Живу дальше» и последняя «О». Для меня она очень важна. У меня две картины, на которых изображены образы звуков, - «А» и «О». Из основных работ ещё «Зима», «Окно»…
- Разрабатываете ли новые темы, или обыгрываете то, с чем уже работали?
- Трудно сказать. Круг проблем задан, и из него я не выхожу всю жизнь. Но сказать, что это только вариации на одну тему… Мне как раз кажется, что у меня разные картины.
- Сказывается ли возраст на вашей работоспособности, идеях?..
- Конечно, сказывается. Сил меньше, я гораздо быстрее устаю. Я не чувствую отсутствия идей, интенсивность работы в известном смысле даже увеличивается. Концентрация внимания у меня сейчас гораздо выше, чем в молодости, поэтому за час я могу сделать больше. Помогает опыт. Знаешь, как держать себя в руках, как реагировать на неудачу, которая раньше могла надолго выбить из колеи. В смысле возрастных изменений я пока не ощущаю ничего катастрофического. Конечно, сил бы побольше, но работать я пока в состоянии. Ну и приходит ясность сознания.
- Ваша профессиональная жизнь, на ваш взгляд, удачно сложилась?
- Я считаю, у меня очень счастливая жизнь. О чём может мечтать художник, который делает то, что считает нужным, и так, как считает нужным?.. У которого нет материальных проблем и ничто ему не мешает?..
Наташа, моя жена, избавляет меня от бытовых и прочих проблем, которые были бы для меня мучительны и с которыми я, наверное, не справился бы. Наверное, за сегодняшнее благополучие я заплатил тем, что тридцать лет даже не думал о том, что смогу показать свои картины, не то что выставить их или продать.
Беседовала Елена Калашникова
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Виктория Сальникова. Эрик Булатов — один из самых известных современных русских художников, картины которого видел, скорее всего, каждый. Булатова часто называют основателем соц-арта. Его полотна легко узнаваемы: это яркие плакатные надписи на фоне пейзажей.
Одна из недавних и знаковых работ художника 13 июня была передана в коллекцию Третьяковской галереи. Живописное полотно "Картина и зрители" была подарена музею Благотворительным фондом Владимира Потанина.
Мы вспомнили главные картины Булатова — от советского периода до наших дней.
"Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями", 1979 год
Книги, оформленные Эриком Булатовым, держал в руках, наверное, каждый ребенок. Иллюстрации к сказке "Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями" Сельмы Лагерлёф стали каноническими. Как и многие советские художники, параллельно с большим искусством Булатов занимался "маленьким" — оформлением детских книг.
"Слава КПСС", 1975-2005 годы
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом В.Потанина Эрик Булатов, "Слава КПСС", 2003-2005 Холст, масло, 200 x 200 см. Дар Владимира и Екатерины Семинихиных
© Фото: предоставлено Благотворительным фондом В.Потанина
Картина "Слава КПСС" вошла во все художественные энциклопедии. В начале 1970-х годов Эрик Булатов начал развивать новый стиль: он накладывал на реалистичные пейзажи яркие надписи, позаимствованные с идеологических плакатов. В это же время он увлекся экспериментами с пространством.
Полотно "Брежнев. Советский космос" можно принять за настоящий идеологический плакат. Однако работа была запрещена. "Политической критики в картинах нет — только потребность показать ненормальность той жизни, которая воспринималась нашим сознанием как нормальная", —
Эрик Булатов родился в Свердловске (ныне ныне Екатеринбург) в 1933 году: «Отец ездил в командировку на Урал, беременная мать поехала с ним, я там родился, а потом они вернулись», в Москву.
Отец был родом из Саратова, затем с родителями перебрался в Москву. В 1918-м отец вступил в партию, сразу после гимназии ушёл на Гражданскую войну, что стало трагедией для семьи. В 1937-м его исключили из партии, и всё шло к аресту. «Но тут моя мать сделала простую, но очень эффективную вещь. Сняла под Москвой дачу, и отец там примерно полгода жил. Он не был крупным политическим деятелем, поэтому властям не нужно было именно его арестовать. На каждый район была развёрстка - взять столько-то, но если этого нет, возьмём другого. Как в армию набирали, примерно так же. Когда эта кампания кончилась и отец объявился, его не тронули, восстановили в партии, но он не вернулся на партийную работу. У него было высшее образование, и он пошёл работать учёным секретарём в Большую советскую энциклопедию».
Мать была натура романтическая и очень активная. Родилась в Польше, в Белостоке. В пятнадцать лет нелегально перешла границу: Россия - свобода, революция... Её поймали на границе, вернули, но в конце концов она оказалась в России, не зная русского языка, у неё был идиш и польский. Но через три года она настолько освоила русский, что уже работала стенографисткой. Сначала в Каменец-Подольском, потом в Москве...
«Мама была очень одарённым человеком и в 1920-е годы даже сдала актёрский экзамен на киностудии... Она была настроена против генеральной линии партии, против всякой власти, типичное интеллигентское сознание. Она должна была быть и против отца, их взгляды во многом были противоположны, но они очень любили друг друга».
Когда началась война, отец ушёл на фронт добровольцем и не вернулся - погиб. Семья уехала в эвакуацию - сначала в Саратов, потом в Свердловск. «Когда мы уехали в эвакуацию, те, кого вселили в нашу квартиру, топили печку книгами. Начали с нижних полок, где были мои детские книжки и рисунки, а наверху стояли книги Ленина и Маркса. Они, естественно, начали не с Маркса, да и лазить туда было далеко...»
С началом войны кончилось счастливое детство Эрика. «Кошмар продолжался, пока я не поступил в художественную школу. Потом пошла нормальная жизнь. Сколько себя помню, я рисовал, и рисовал хорошо. Тогда было ещё рано судить, что из этого может получиться. Это определяется годам к десяти-двенадцати, но отец поверил, что я буду художником.
Учился я в московской средней художественной школе при институте имени Сурикова, моя профессия была выбрана ещё в школе. Получилось довольно глупо. Сначала мама показывала мои рисунки разным художникам, даже Корину. Корин и другие говорили, что не нужно меня никуда отдавать, меня там могут испортить, что-то в этом роде, в общем, рано ещё.
В художественную школу принимают после пятого класса общеобразовательной. Я не знал, что есть такая школа, и узнал о ней случайно. В параллельном классе учился мой сверстник, который тоже рисовал, мы с ним конкурировали. Как-то он мне сказал, что поступает в художественную школу, там экзамены, но он уверен, что пройдёт. Я был потрясён, узнав, что есть такая школа, побежал туда, но оказалось поздно - экзамены прошли, а новых год ждать. Мне посоветовали подготовиться в Доме пионеров...»
Два года он занимался в кружке рисования у Александра Михайловича Михайлова, которого вспоминает с любовью и благодарностью. На следующий год Эрик Булатов пытался поступить во второй класс художественной школы, но не прошёл по конкурсу. В 1947 году его приняли в третий класс. После школы «как-то само собой» Булатов поступил в Суриковский институт, на живописный факультет. Поскольку школу окончил с медалью, вступительные экзамены держать не пришлось.
«Мне повезло с учителями в Московской средней художественной школе (знаменитой МСХШ), где я учился вместе с Ильей Кабаковым и Олегом Васильевым,.. с которым мы всю жизнь дружим ».
«...Мы не были „парни с одного двора“. Наша дружба была именно сначала профессиональной - общность каких-то взглядов, которыми мы делились, - а уж потом как бы человеческой. Тогда это было просто как воздух, потому что вокруг делали вид, что нас просто нет. И конечно, вот такая вот дружба, взаимная поддержка была просто необходима... Мы с Олегом были близки по взглядам, всё время общались и друг в друге нуждались, поэтому объединились в работе».
В Суриковском институте он учился у профессора Петра Дмитриевича Покаржевского. «В художественной школе мы рисовали как сумасшедшие, работали с утра до ночи и ни о чём другом не думали. Там учились дети привилегированных и обычных людей, но для нас это не имело значения, делились только на бездарных и талантливых. А в Суриковском была мрачная, затхлая, провинциальная атмосфера, время было тяжёлое - конец 1940-х - начало 1950-х. Смерть Сталина...»
К концу института Булатов понял, что не должен зависеть от заказов государства, чтобы свободно развиваться. Все средства к существованию были в руках государства, частных заказов не могло быть. Значит, в живописном деле надо было искать другой способ зарабатывать деньги, чтобы он оставлял время для непосредственной работы.
«После института я чувствовал, что ничего не понимаю в искусстве, ничего не умею. Мне нужно самому переучиваться, чтобы выучиться настоящему, серьёзному искусству... Окончив Суриковку, я впал в отчаяние: не было сознания, что я - художник, но было ощущение, что все, чему нас учили, - неправда. От полного отчаяния мы с Олегом Васильевым стали искать человека, который мог бы что-то объяснить, и случайно вышли на Фаворского....
Фальк и Фаворский помогали понимать, осваивать своё ремесло, что для меня было неоценимой помощью, в институте я этого не мог получить. Я хотел стать серьёзным, настоящим художником, поэтому мне приходилось переучиваться. Полученного образования было недостаточно».
На переучивание ушло ещё три года. А для этого надо было не зависеть от государства, быть материально и духовно независимым. Значит, надо было искать возможность зарабатывать на жизнь не живописью. Именно тогда очень кстати прозвучал дельный совет нынешнего классика Ильи Кабакова: «...надо идти в детскую иллюстрацию. Там работа более-менее свободная, и там поспокойней. Заработаете, а потом будете заниматься своим». Так и случилось.
С 1959 года Олег Васильев и Эрик Булатов в содружестве создают иллюстрации к детским книгам для издательств «Детгиз» и «Малыш». «Я перепробовал разные способы. Самым лучшим для меня оказалось иллюстрирование детских книг... Надо было как-то зарабатывать на жизнь, а рисовать картинки к детским книжкам нам с Олегом Васильевым очень нравилось... И вот мы вместе с Олегом Васильевым стали иллюстрировать детские книги и занимались этим тридцать лет».
Эрик Булатов и Олег Васильев разделили год на две части: тёмное время - осень и зима - это были детские книжки, приносившие заработки, а в светлое время - весна и лето - была работа для себя, живопись.
«Когда полгода я делал книжки, а полгода - живопись, то не всегда успевал закончить картину, а тут надо переключаться на другую работу, которая требует иного сознания и отношения. Эти переходы всегда были трудными... И у меня развилась способность консервировать в сознании тот или иной образ. За полгода он не должен был меняться, надо было вернуться к тому месту, на котором я прервал работу. Возможно, этот подход был мне свойственен, но он, безусловно, развился благодаря такому способу работы... Никогда эти дела не смешивал».
«Одновременно делать то и другое мы не могли. И та и другая работа требовала от нас полной отдачи. В этом смысле мы с Олегом одинаковы. Хотя я и тогда не понимал, почему для себя, и сейчас не понимаю. Это ведь работа, которую делаешь, потому что есть такое ощущение, как будто ты обязан это делать. И если пытаешься этого не делать, то все время ощущение, что обманываешь, что жульничаешь и вообще лодырничаешь».
«Не могу сказать, что мы этим тяготились. Это было интересно. Мы делали детские книжки только вдвоём. Мы выработали такого художника, который был не Олегом Васильевым и не Эриком Булатовым. Это был некто третий. Все наши книжки проиллюстрированы этим художником. А всего мы сделали за тридцать лет больше ста книг».
Когда дело дошло до сказок («Сказки народов мира», сказки Шарля Перро, сказки Х.К. Андерсена), на страницах детских книжек начался бурный и яркий праздник. Некоторые исследователи даже ворчали потихоньку, что молодые художники работают в слишком «шумной» манере. Но дети, как известно, исследователей не читают. Они просто любуются Спящей красавицей , красавицей-Золушкой и, вполне вероятно, на самом деле слышат шум весёлого придворного бала.
«Ведь дети интуитивно чувствуют, где правда искусства. Ты можешь нарисовать копию реального средневекового замка, а ребёнок скажет: не верю. Потому что точно знает, как должен выглядеть настоящий замок, а как - настоящий принц. Вот мы и пытались рисовать все «по правде».
Многие большие художники начинали с иллюстраций детских книг. Тому есть самое поверхностное, житейское объяснение. Свои «серьёзные» работы они в те глухие годы строгой цензуры не могли ни открыто продавать, ни открыто выставлять. А ремесло детского рисовальщика давало неплохой заработок и оставляло время для тех занятий, которые они считали главными. И здесь очень важный момент: легко подумать, что их вынужденный, наёмный труд на ниве детского иллюстраторства только отвлекал их от основной стези.
На самом деле всё было иначе. Недаром наш мудрый народ любит повторять, что «нет худа без добра». Потому что, как говорил великий пролетарский писатель Горький, «для детей надо писать так же, как для взрослых, только лучше». Оказалось, что этот якобы подневольный, подённый труд дал этим художникам возможность пройти замечательную школу. Подобно тому, как в свое время обэриуты научились неслыханной свободе, когда писали свои детские стишки, так и художники, которые прошли школу оформления книг для детей, вольно или невольно обрели свободу, которую никогда не даст академическая выучка.
Незадолго до перестройки Булатову предложили поработать на Запде. Он согласился, и они с женой уехали. После выставки в Цюрихе в 1988 году перебрались в США.
«Жили в Нью-Йорке, в артистическом районе Сохо, где множество художественных галерей. Это место обладает прекрасной аурой для творчества. Однако тебе все время твердят: „Давай-давай, всё, что ты делаешь, - здорово, только делать надо ещё быстрее, ещё больше!“ Под таким прессом сознание художника не успевает вырабатывать новые образы и начинает клонировать собственные идеи. Мне, в общем, повезло, что мы вскоре уехали».
Они уехали в Париж. В 1992 году Минкультуры Франции предложило небольшой грант и дешёвое жильё в Париже. «Попав в Париж, Наташа сказала, что никуда больше не поедет. Мы купили квартиру недалеко от Центра Помпиду, обзавелись друзьями и так и живем...
Я считаю, у меня очень счастливая жизнь. О чём может мечтать художник, который делает то, что считает нужным, и так, как считает нужным?.. У которого нет материальных проблем и ничто ему не мешает?.. Наташа, моя жена, избавляет меня от бытовых и прочих проблем, которые были бы для меня мучительны и с которыми я, наверное, не справился бы. Наверное, за сегодняшнее благополучие я заплатил тем, что тридцать лет даже не думал о том, что смогу показать свои картины, не то что выставить их или продать».
Замечательные иллюстраторы. Булатов и Васильев. Именно так. Как фамилия одного художника. Может быть, им и тогда было смешно разрисовывать детские сказки всякими феями и колдуньями, а может быть... В семьдесят лет даже одну детскую улыбку ценишь не так, как в сорок. А если твоим книжкам рады все?..
фото: приложение «Антиквариат» к ж. «Интерьер+Дизайн», 2008, № 1, fotodepartament
https://www.сайт/2016-06-15/hudozhnik_erik_bulatov_o_falshi_ideologii_svobode_i_smysle_zhizni
«Мы, конечно, не лучше других. Просто мы имеем право существовать на равных»
Художник Эрик Булатов - о фальши идеологии, свободе и смысле жизни
 Эрик БулатовАлександр Щербак/Коммерсантъ
Эрик БулатовАлександр Щербак/Коммерсантъ
Что будет с искусством в условиях идеализации советского времени? Как исследовать идеологию посредством живописи? Можно ли оказаться за пределами агрессивного социального пространства? О взаимоотношениях искусства и идеологии сайт поговорил с классиком современной живописи Эриком Булатовым.
«Каким бы агрессивным ни было социальное пространство, у него есть границы»
В своих картинах социальную идеологизированную реальность, ставшую в советское время привычной и естественной, вы «отлепляете» от реальности настоящей - действительно естественной - и тем самым делаете ее видимой и противопоставляете одну другой. Это противопоставление уже не занимает вас сегодня, но ему отдана практически вся ваша жизнь. Почему это было так важно для вас?
Как иначе можно было выразить фальшь той идеологической реальности? Ее надо было как-то выявить, показать отдельно, чтобы человек вдруг увидел свою жизнь со стороны. Как бы поймать эту идеологию за руку. Эта социальная проблема давно уже отошла для меня на второй план, потому что она была связана с советской жизнью. Но тогда - жизнь, в которую я был погружен, нужно было как-то выразить, причем не как свое мнение о ней, а в форме настоящей действительности - такой, какой она объективно была, вне моих желаний.
 Лев Мелихов
Лев Мелихов
Вы были погружены в советскую реальность, но, чтобы осмыслить ее полно, вам нужно было как бы подняться над ней, грубо говоря, отключиться от массового состояния зомбированности идеологией, чтобы посмотреть на происходящее другими глазами. Если так, то в какой момент произошло это «отключение»?
Не то чтобы подняться над реальностью, а как бы высунуться из нее, оказаться снаружи. Наша социальная реальность - это не вся реальность, которая нам дана: она имеет свои границы, за которые можно заглянуть. Для этого за пределами социального пространства нужно иметь точку опоры. Для меня это было искусство. Я отчетливо понял, что пространство искусства находится за пределами социального пространства. Да, то, что искусство обслуживает социальное пространство, полностью питается им - все это верно, но все-таки точка опоры искусства находится где-то снаружи, и она дает возможность упереться обо что-то, что позволит высунуться из этого пространства и посмотреть на него со стороны. Это очень важная вещь, потому что каким бы агрессивным, опасным, сильным ни было социальное пространство, у него все равно есть границы, за пределами которых оно не имеет никакой власти, совершенно бессильно - там-то, собственно, свобода и возможна.
- Можете предметно объяснить, как эту возможность «упереться обо что-то» вы использовали?
Эту возможность я нащупал в свойствах самой картины. Ведь что такое картина? Это соединение двух начал - плоскости, на которую мы кладем краску, и пространства, в которое эта плоскость в состоянии каким-то образом трансформироваться. Эти два начала на самом деле прямо противоположны. Но в любой классической картине - как Рембрандт или Тициан - они сводятся воедино, в некую гармонию. Я подумал, что эти два начала необязательно сводить в этот гармоничный дуэт, наоборот - их можно противопоставить друг другу, ведь изначально они и так противостоят. Этот конфликт и будет содержанием картины, что, собственно, и дало мне возможность проблему свободы и несвободы рассмотреть не как литературный материал, к которому нужно сделать иллюстрации, а как пространственную проблему.
 AFP/East News
AFP/East News
- Которая заключается в чем?
Она заключается в том, что пространство - это свобода, а запрет на пространство - это несвобода, то есть тюрьма. И я все время противопоставлял одно другому: «Вход» - «Нет входа», «Слава КПСС» - и небо. Два противоположных друг другу начала - подлинное пространство, и то, что нас не пускает в него, но изображает себя как праздник, как некое достижение. Это и дало возможность выразить фальшь идеологии. Она же оперировала красивыми высокими понятиями: все время говорилось о свободе, о человеческом достоинстве, о мужестве, о честности; а на деле имелось в виду доносительство, предательство, холуйство элементарное. Эти подмены я старался выразить.
Насколько сильно, по-вашему, находящаяся в городском пространстве идеологическая продукция (допустим, плакаты с лозунгами) влияла на человека?
Очень сильно, наше сознание было совершенно деформировано. Если с детства вам внушают, что что-то надо понимать так, а что-то так, то в конце концов вы воспринимаете это как данность, как нечто привычное и, главное, нормальное. При этом вы все время сталкиваетесь с тем, что не соответствует вашей практической жизни, натыкаетесь на ложь, но ощущение того, что все это нормально сохраняется. Я старался показать, насколько эта нормальность на самом деле ненормальна.
- Почему это не замечалось многими?
Это воспринималось просто как лозунги советской действительности. Да, кругом написано «Слава КПСС», плакат такой - ну и что? Или наоборот - наши философствующие диссиденты обрушивались на меня: как ты мог по нашему русскому небу написать эти жуткие слова? Пространственный смысл в моих картинах, о котором я вам говорил, просто не замечался. Читались сами слова: «Слава КПСС». А больше - что еще там смотреть, и так все понятно. В лучшем случае все воспринималось как американский поп-арт, сделанный на советском материале. Так думали те, кто пытался найти тут какую-то иронию. Но никакой иронии не было. Был прямой портрет этой реальности. Правда, в то время мои попытки говорить о пространственной основе моих картин воспринимались как блеф: сделал политическую картину, а нам голову морочит. Сейчас это стало понятно, видите, понадобилось время. Когда в Манеже в 2014 году была моя выставка, я увидел, как много приходило молодых людей, какой у них был интерес к тому, что я делаю. Для меня, конечно, это очень важно - живут мои картины, они не умерли, значит, все было правильно, я поймал что-то живое, нерв этой жизни.

В одном из интервью вы говорите: «Я хочу, чтобы люди не идеализировали советское время ни в коем случае — это было плохое время». В России сегодня вы сталкиваетесь с этой идеализацией, учитывая тот факт, что большую часть времени вы живете в Париже и приезжаете в Москву несколько раз в год?
К сожалению, сталкиваюсь часто. Здесь (дома в Москве - прим. ред.) телевизор ведь все время, и очевидно, что насаждается идеализация советского времени. Да и политика основана на том, что сегодняшняя Россия - это наследник советской системы; что случилось несчастье - разрушился Советский Союз, но что делать - мы будем продолжать советские традиции. Ужасная, конечно, ситуация.
- Чем она ужасна?
Это возврат к советской системе, а советская система - это путь к культурной гибели. Советское время неоднородно, характер советской власти менялся со временем, но наиболее полно он проявил себя при Сталине, это был его «расцвет» - последние годы Сталина. Я был уже достаточно сознательным человеком (учился в институте в то время), поэтому эти годы я знаю. Это была смерть культуры. Ее держали вот так за горло. Это была абсолютная смерть всего живого.
- Лично вам как это мешало в те годы?
Мне повезло, что Сталин умер, когда я еще учился на первом курсе института. Тогда я был несформировавшимся художником. И сразу после смерти Сталина произошло невероятное облегчение. Жизнь просто вспыхнула. Я уж не говорю о том, что возвращались люди, невинно осужденные. Наконец-то о Сталине были сказаны справедливые слова. Для меня открылся целый мир искусства, который был запрещен, был неизвестен. Вдруг появились выставки, и в Пушкинском музее вместо подарков Сталину показали импрессионистов. Начались обсуждения, споры - какая-то живая жизнь. В это время мне ничего и не мешало формироваться как художнику. В целом - в тот момент было непонятно, в какую сторону все пойдет, но очень быстро выяснилось, что политика партии опять будет такая же, да и случился этот глупый разгром искусства в Манеже, который устроил Хрущев. Стало сразу понятно, что, если я действительно хочу быть честным, серьезным художником (себя я художником еще не считал тогда, я не чувствовал своей самостоятельности в искусстве, а был под влиянием того или другого художника), то я должен не зависеть от этого государства. Потому что государство было единственным заказчиком. Правда, у того времени по сравнению со сталинским было преимущество: при Сталине ни о каком сопротивлении, ни о какой инакомыслящей возможности не было и речи - в любой момент дня и ночи к вам могли войти и выяснить, чем вы тут дома занимаетесь. Теперь оказалось, что дома можно делать что хочешь, показывать тебе это не дадут, и за это тебе, естественно, платить не будут, но делать - пожалуйста. При этом государство было единственно возможным заказчиком искусства, коллекционером, куратором и имело право заказывать то, что ему нужно, и платить лишь за то, что сделано так, как ему нужно. И, если ты хотел быть независимым художником, нужно было зарабатывать на жизнь чем-то другим. Я стал заниматься детскими иллюстрациями. И это оказалось для меня тоже очень интересным делом. Так действовали многие художники. И это было спасением.

- При этом непосредственно свои картины писать «в стол»?
Конечно, они у меня в мастерской так и были. Но сначала я об этом и не думал даже: показывать-то, конечно, думал, но это было невозможно, а продавать - об этом и не мечтал. Это все как-то потом получилось.
«То, что я делал, просто не нравилось»
- В какой момент и как картины стали уходить из вашей мастерской? Как была продана первая картина?
Это произошло в довольно позднее время - в восьмидесятые. Хотя первая картина была продана за границу в 1969 году. Это был мой автопортрет на черном фоне с белым силуэтом. Его вывозили неофициально, как бы исподтишка. Потом, в восьмидесятые, стали вывозить открыто через салон для иностранцев: там ставилась печать «художественной ценности не несет» на обратной стороне картин и их можно было вывозить без налогов.
А автопортрет был отдан за деньги? Я знаю, что некоторые свои картины вы отдавали чуть ли не бесплатно - лишь бы они уехали отсюда.
Мне фотоаппаратом заплатили за него. Это была очень любопытная известная дама в Париже, ее звали Дина Верни. Она была натурщицей Майоля, но потом он все ей завещал, она стала его наследницей. И, видимо, хорошо вела дела, потому что в результате у нее была своя галерея в Париже и позже музей Майоля. В общем, она приехала сюда и купила у меня картину.
- То есть она смотрела мастерские художников в Москве и зашла к вам?
Да. Так получилось, что обо мне во Франции уже вышла публикация. Был такой журнал «L"Art Vivant», иначе - «Живое искусство». Вышел номер, посвященный советскому искусству, - театру, кино, литературе и живописи. Как я туда попал - это вопрос, потому что вообще-то я был в стороне от андеграундной художественной активной жизни. Но все же в нем как-то оказалась короткая публикация про меня и репродукция с этого автопортрета. На Дину это произвело впечатление, и, когда она приехала в Москву, она специально меня искала. Это изменило мое положение здесь - на меня обратили внимание, и потом к концу семидесятых ко мне стало приезжать все больше иностранцев. В связи с этим здесь в Союзе меня стали дергать, пугать, что исключат из Союза художников, и тогда отберут мастерскую (она принадлежала не мне, хоть я построил ее и на свои деньги). Поэтому я был рад, если кому-то нравилось, что я делаю, и хоть бесплатно отдал бы картины, лишь бы они уехали отсюда. Я думал, куда я это все дену, если отберут мастерскую, - все же погибнет.

- А из советских кто-то интересовался вашими работами?
Нет, мной не интересовались. Так получилось, что к 1988 году почти все мои картины были уже за границей. И тогда была устроена в кунстхалле Цюриха моя выставка из тех картин, которые уже были там. Это был решающий момент для меня. С колоссальным трудом меня все-таки самого выпустили за границу и я сумел попасть на свою выставку. Она имела успех, после - поехала по музеям Европы, потом в Америку. Я стал получать предложения от галеристов, и у меня впервые возникла возможность зарабатывать на жизнь непосредственно своим главным трудом (Эрику Владимировичу на то время было 55 лет - прим. ред.), которой я решил воспользоваться: мы поехали с Наташей, моей женой, жить сначала в Америку, а потом все-таки в Европу. В Нью-Йорке очень хорошо пошли дела - мы сразу заработали довольно много денег (настолько, что могли сразу же купить квартиру в Париже), но Наташе было невыносимо там, в результате мы оказались в Париже, чему оба были рады. Это спокойное место, где можно хорошо работать и где много художников из разных стран.
Хочу уточнить, вы задавались вопросом, почему в Советском Союзе никто не интересовался вашими работами тогда?
То, что я делаю, просто не нравилось, правда, никто толком и не видел, что я делаю, в мастерской у меня почти никого и не было. Когда же появились репродукции с моих работ, то к ним утвердилось отрицательное отношение в другом смысле. Наши передовые искусствоведы, которые боролись против советского стандартного искусства, опирались в своем сопротивлении на искусство, запрещенное советской системой, - на наш авангард двадцатых годов, на Пикассо, на Матисса, и еще в целом на то, что делалось во Франции. Это была модернистская эстетика - очень красивая, что и говорить, - но она принадлежала другому времени. Потому что искусство всегда выражает свое время, и, естественно, советское время оно никак не выражало. А то, что делаю я, воспринималось этими людьми как возврат к советскому искусству, против которого они так мужественно боролись. Им вдруг как бы опять показывают что-то советское, но заявляют, что это современное искусство. Я помню такие обвинения. Они не видели пространственного характера моих работ, воспринимали прямо: «Слава КПСС». Да, еще я хочу закончить то, о чем начал говорить - насчет советской системы. После Сталина ее природа на самом деле осталась такой же, просто слабела. И если бы она обрела силу, то снова бы стала такой, какой была при Сталине. Но эта система разваливалась, постепенно уступала свои позиции, но каждый раз с дракой. Возьмите «Бульдозерную выставку» - для тех, кто был внутри этой ситуации, это было очевидно.
«Мысли, что мы лучше всех, — это ведь не патриотизм»
По-вашему, что происходит с системой, которая существует сегодня? Пытается ли она выглядеть сильной за счет постоянной отсылки к советскому времени, непосредственно сталинскому?
Конечно, она пытается быть сильной, это необходимо ей, это навязывается и внешнеполитической ситуацией. По своему характеру она старается по возможности приблизиться к советской конструкции. Это очень опасно, прежде всего будет страдать культура, да и сознание людей. Понимаете, это ведет к национализму, что очень плохо: мысли, что мы лучше всех, - это ведь не патриотизм. На самом деле мы, конечно, не лучше других, просто мы имеем право среди других существовать на равных, и это очень важно, в этом состоит наша задача: мы должны делать общее культурное дело со всем миром. И это не значит, что мы должны себя противопоставлять и идеализировать.

Как вам кажется, насколько легко повлиять на сознание людей, которые выросли в девяностые, немного раньше или немного позже - в общем, в достаточно свободное время, и ограничить его?
Этого я не знаю, похоже, что это получается. Здесь есть очень важный момент: новое государство возникло не как наследник, а как противник предыдущего. Оно противопоставило себя той империи, которая была, и освободило всех, кто хотел получить свободу. И в этом смысле все началось очень красиво. Но потом пошло вкривь и вкось и пришло в результате к тому, что сейчас происходит: люди хотят сильной власти, хотят порядка, что в принципе понятно и справедливо, но получается, что самый лучший порядок был при советской власти, особенно при Сталине - там уж такой порядок был, что, действительно, не шевельнешь ни рукой, ни ногой. Но насчет политики я ничего не понимаю. Я лишь все время слышу пропаганду: меня все время агитируют - и здесь, в России, и там, на Западе и в той же Франции. Там наоборот агитируют против сегодняшней России. И я не верю ни тому, ни другому, потому что с детства объелся этой пропагандой. А информации на самом деле нет, есть инструкция: что я должен думать о том-то и о том-то - что с этой стороны, что с той. Поэтому я ничего не понимаю и не берусь судить.
«В этом и состоит освобождение»
В своих последних работах, вы и сами об этом говорите, вы задаетесь экзистенциальными вопросами. Раз в какой-то момент вы перешли к ним, то, значит, прежние социальные проблемы, которые волновали вас на протяжении большого периода времени, как-то отпустили. Это так?
Как бы горизонт отодвинулся: был социальный горизонт, а за его пределами оказалось пространство, не подчиняющееся социальному, но со своим горизонтом - экзистенциальным. И возраст, наверное, требует понять что-то более фундаментальное. Но тем не менее я как-то пытаюсь все время оглядываться и выражать и сегодняшнюю жизнь русскую. Я написал картины «Тучи растут», «Наше время пришло» и «Московское утро». Есть еще картины, которых вы не видели, - я сделал их в этом году, они выставлялись на моей последней выставке в Женеве. Там «Чистопрудный бульвар» у меня был: моя мастерская на Чистопрудном бульваре, в конце него памятник Грибоедову, и зимой люди идут по бульвару, и снег. Все под снегом - призрачное. Такая картина. Здешняя жизнь меня по-прежнему притягивает, какие-то образы преследуют, а что они значат, я сам толком не знаю. Может быть, пройдет время и я узнаю. В общем-то, я ведь начинаю не с того, что я что-то знаю. То, что я сейчас вам рассказываю, про советское, - я потом уже стал знать, а когда делал, то вообще не думал об этом. Просто образы были очевидные, и я понимал, что поймал их очень точно.

- То есть идеологическое значение написанного осмыслялось уже после, спустя время?
Да, к примеру картина «Красный горизонт». Я сделал ее в Доме творчества в Крыму. Там меня прошиб радикулит ужасный. Дело было в феврале: были ветра, шторм. От радикулита меня лечили в поликлинике: я должен был лежать на животе - мне грели спину какой-то лампой. Я лежал так и смотрел в окно, а за окном море - красота. Но прямо перед окном на уровне моих глаз проходила какая-то балка, покрашенная в красный. И она меня ужасно раздражала - все мне закрывает, не пускает меня туда. А как бы было хорошо лежать и смотреть на море. И тут меня стукнуло: дурак, это же тебе прямо точно показывают твою собственную жизнь. То, что ты хочешь, то, что тебе нужно, от тебя закрыто. Возник этот образ - «моя жизнь», и эта картина. И уже потом - вся эта идеология, все можно объяснить потом.
Если говорить об освобождении от идеологизированности сознания за счет искусства - вы можете описать этот процесс освобождения, который происходит у вас в процессе создания картины и потом - картина за картиной?
Всегда все начинается с какого-то образа: его я отчетливо вижу и очень остро чувствую необходимость этот образ материализовать. Как правило, то, что я рисую сразу, оказывается непохоже на то, что я имею в виду. И тут начинается предварительная работа (из-за которой я так медленно и работаю): я пытаюсь понять, что не то и где я ошибся. Я должен найти возможность точно выразить тот неизменный образ, который закрепился у меня в голове. Я тщательно делаю рисунок - вижу, что непохоже, делаю другой - вижу, что это не то, делаю третий и так далее. В какой-то момент я понимаю, что вот это - то, что надо, это похоже. Так я получаю основную пространственную конструкцию и дальше могу работать с ней уже на большом холсте. Там я в точности довожу образ до того образа, который есть у меня в голове; когда они совпадают, я кончаю работать - я поймал его, зафиксировал. В этот момент я получаю свободу от него, потому что я отделил этот образ от своего сознания, я нашел его и к дал ему имя - теперь он живет отдельно от меня. В этом и состоит освобождение. И, если получилось действительно то, что я должен был сделать, то обязательно открывается возможность что-то увидеть еще, на основе чего я могу делать другую картину, - так само собой строится некий путь. Все эти образы - они о советском времени и, как правило, связаны, поэтому, в конце концов, составляют один большой образ, который вы называете идеологией.

«Ко времени Ельцина я все равно отношусь с любовью»
В Ельцин- Центре вы воспроизвели вариант картины «Свобода есть». Это был заказ конкретно на эту картину или вы сами решали, что сделать?
Был заказ сделать образ свободы, и я предложил такое решение; сделал эскиз - он понравился.
В первоначальном варианте слова «Свобода есть Свобода есть» на плоскости разрывает пространство неба со словом «Свобода». В варианте для Ельцин Центра сохранен только фрагмент с небом и одиночным «Свобода». Почему? Повторяющиеся «Свобода есть», как лозунги, как то, что существует только в теории, в данном пространстве оказались неуместны?
Фраза «Свобода есть», повторяющаяся без конца, она как лозунг, как декларация, на самом деле фальшивая, конечно. Все эти повторы находятся на плоскости, на поверхности картины, а одно слово «Свобода» - это прорыв поверхности, сквозь поверхность в пространство, туда, где подлинная свобода. Это противопоставление подлинной свободы и свободы фальшивой. В картине для Ельцин Центра я, скорее, исходил из картины «Иду», в ней важно движение. Здесь ведь первое социальное пространство уже есть - это сама комната, в которой мы с вами находимся. А движение из него - это выход в глубину, в пространство. И это не абсолютно свободное движение, потому что на пути облака как преграда, как сопротивление движению. При этом остается ощущение, что буквы все же в состоянии пройти сквозь эту преграду.
Именно это ощущение характеризует то время, которому посвящен Ельцин Центр? И, если вы прогулялись по выставочным пространствам, насколько точно это время показано?
Это время для меня - абсолютный разрыв с советской системой, противопоставление ей. Это по возможности максимальная социальная свобода. В тот момент, конечно, была полная иллюзия того, что впереди открывается что-то замечательное. Тогда в нашем сознании было так: вообще все зло на свете - это советская идеология, и как она рухнет, так все будут счастливы. Оказалось, что не все так. И это я хотел выразить. Что касается того, как сделан Ельцин Центр, я хоть и смотрел, но все как-то мельком, потому что думал не об этом, а только о своей работе. Поэтому про него не берусь ничего сказать. Мне бы хотелось, чтобы сделано было убедительно, хорошо, наглядно, потому что к тому времени я отношусь все равно с любовью и вспоминаю о нем с благодарностью.

- А почему «все равно»?
Потому что потом сразу начались проблемы, трудности, неожиданные и, конечно, неприятные. А чуть после случился отказ от тех достижений, которые поначалу были установлены, произошло постепенное отступление. Но не берусь судить - ни в экономике, ни в политике я не разбираюсь.
«Вот ведь в чем всё дело: мы для чего-то существуем»
Мы заговорили о свободе - для вас какова разница в понимании свободы в рамках идеологизированного общества и свободы вообще - в экзистенциальном смысле?
Свобода - понятие очень неоднозначное в том смысле, что его можно на разном уровне фиксировать. Что касается социальных свобод как таковых - конечно, в демократических государствах их больше, чем в тиранических, но в смысле идеологии - все идеологизированы. Я не думаю, что Америка или Европа менее идеологизированы, чем Советская система. Просто там другая идеология - рынка. И в каком-то смысле она опаснее для нашего сознания, потому что советская идеология была откровенно бесчеловечна и потому ее было легко отделить и увидеть, посмотреть на нее со стороны. А идеология рынка не бесчеловечна, наоборот - она все время предлагает массу нужных, полезных, хорошо сделанных вещей. Но дело в том, что в результате вам опять же, как и в советской, с самого детства незаметно, но упорно внушают, что в приобретение этих вещей и есть смысл вашей жизни.
Если бы сознание человека не было затуманено ни той, ни другой идеологией, о которых мы говорим, то о каком истинном смысле жизни следовало бы говорить?
Именно тогда-то и можно говорить о каком-то смысле жизни, когда человек живет, делая какое-то дело, которое он любит, в которое он вкладывает свою душу, - и не потому, что дело дает ему деньги или какие-то материальные выгоды, а потому что он любит это дело. И неважно, что это будет: искусство, или наука, или религия - хоть что. А если человек всю жизнь живет для того, чтобы приобрести как можно больше, - это какая-то пустая, ну, или, во всяком случае, фальшивая жизнь. А человек для чего-то же существует. Вообще — человек, не каждый конкретный. Вот ведь в чем все дело: мы для чего-то существуем. Мы же не вписываемся в животный, в этот естественный, мир. Наше сознание в него не вписывается - оно все равно из него высовывается, хочет чего-то другого. И именно то, что человека выделяет, то, что выводит его за пределы всей земной гармонии, где все сбалансировано, показывает, что человек для чего-то другого сделан.

- Как бы вы ответили на этот вопрос?
Здесь не может быть никакого общего ответа. Но важно то, какую роль в этом играет искусство. Оно этот вопрос решать не может, но постоянно ставит его перед нашим сознанием. Перед лицом этого вопроса мы и живем, я думаю.
Напоследок пару слов об Екатеринбурге. На первый взгляд, с ним вас связывает немало: и родились в Свердловске, и здесь же были в эвакуации. Но, по факту - нет, этот город вас не определяет. Родились вы здесь лишь потому, что из Москвы отец приехал сюда в командировку, а беременная мама поехала с ним. Потом в годы войны вы оказались с мамой в эвакуации в Свердловске. Тогда вы были повзрослее, школьником, сохранились какие-то воспоминания о том времени? И сколько вы провели в эвакуации?
Мы попали туда в конце лета 1942 года, а в феврале 1943 вернулись в Москву - полгода там были. Воспоминаний, связанных с городом, у меня, к сожалению, нет. Мы жили в общежитии сотрудников Московского художественного театра. Там был мой дядя - актер, родители моего отца - мои дедушка и бабушка, и мама моя. Собственно, с ней мы могли отдельно поехать, когда эвакуировались, но мама решила ехать вместе со всеми, чтобы сохранить семью. Мы жили в этом общежитии, общались все между собой, и помню, что все это происходило где-то в общем дворе. Поэтому самого города и людей в нем я не помню.
Хотя потом я ходил в школу (первое полугодие здесь проучился), и у меня были даже какие-то знакомые. Более того, я там выиграл конкурс детского рисунка и получил свою первую премию. Я должен был получить живого кролика. Мама испугалась ужасно. Было голодное время, и имелось в виду, что его можно съесть. Но как можно съесть кролика? Ясно, что нет. Значит, его надо как-то кормить. А куда мы его денем? Там просто не было места: это была большая комната, где стояли кровати и между ними были натянуты какие-то простыни, которые отделяли одну семью от другой. Так что здесь о кролике не могло быть и речи, хотя мне он нравился, конечно, но не для того, чтобы его есть. В общем, мама сказала, что кролика мы никак не можем взять, и мне дали другую премию: набор уральских полудрагоценных камней - замечательный подарок. Потом я отвез его в Москву, а после подарил школе, в которой учился. Так что у меня сохранилось такое воспоминание о Свердловске.
Эрик Булатов. Прыжок. 1994
Он - единственный русский художник, чьи работы выставлялись и в Лувре, в Национальном центре искусства и культуры имени Помпиду, и в Музее современного искусства Парижа. В 1988-м Эрик Булатов был признан ЮНЕСКО лучшим художником года. Мастер говорит, что относится к такому положению дел не без иронии, между тем, он остается автором картин, которые пользуются неизменным успехом на ведущих аукционах.
Эрик Владимирович Булатов - один из самых известных русских художников-авангардистов. Считается одним из основателей так называемого, соц-арта. Родился в Свердловске в 1933 году. Окончил художественный институт имени В.И.Сурикова.

Эрик Булатов. Лувр. Джоконда. 2006
Картины Булатова узнаваемы во всём мире. Это происходит благодаря неповторимой технике. Соц-арт или поп-арт по-русски. Его картины всегда пресыщены символикой, которая в зашифрованном виде преподносит зрителю его наблюдения абсурдности советской действительности, которая на грани перелома мечется из стороны в сторону, ищет выход, но вокруг одни тупики, кругом одни чиновники с их полным произволом и вездесущая индустрия запада, которая мощным клином пробивает ослабевшую скорлупу культуры советского народа.

Зачастую это выхваченные из контекста слова и предложения советских плакатов того времени, наложенные на саму живопись, подтверждающие, самоуничижающие или дополняющие друг друга. Всё это, как недовольство действительностью, как насмешка, протест и революционное настроение, отражается в искусстве Эрика Булатова.

Эрик Булатов. Горизонт. 1971-1972
В этом смысле художник оказался настоящим талантом. В нашей стране не много художников, которые на поле авангарда смогли заслужить такую популярность во всём мире. Здесь дело даже не в антисоветских настроениях в некоторых странах мира, которые находят поддержку в его картинах, а в самом таланте автора, его подходе к живописи, к символизму, к новому жанру, который он взрастил и поставил на ноги.

Первые вставки Э.Булатов начал делать в 1957 году. Тогда выставки проходили исключительно в России, которые однако были довольно востребованы из-за того, что общество, говоря словами Виктора Цоя , "ждало перемен". С 1973 года художник стал выставляться и за границей. С 1992 года живёт в Париже. Считается одним из самых дорогих русских художников. Его работа "Советский Космос" была продана за 1.6 миллионов долларов на аукционе Филипс.



Эрик Булатов. Улица Красикова. 1977
"Я хотел показать советскую жизнь так, как она есть, без выражения к ней какого-либо отношения. В моей живописи не было явного протеста, у меня не было желания убедить в чем-то зрителя: посмотрите как это ужасно! Я не был героем социальной борьбы, как Оскар Рабин. Моя задача была принципиально другая: я хотел, чтобы зритель увидел свою жизнь такой, как она есть, но увидел как бы со стороны."

"Я хотел создать дистанцию между этой реальностью и сознанием зрителя. Этому и служила картина, работая как дистанция, как инстанция отстраненного взгляда. Я строил произведение искусства как инстанцию между реальностью и сознанием. Вот что было для меня важно. Чтобы зритель подумал: так вот она какая моя жизнь... Чтобы он воспринимал мои картины не как поучение, но и делал бы открытие сам."




Эрик Булатов. Хотелось засветло, ну, не успелось. 2002


Эрик Булатов. Вся эта весна. 1998

Эрик Булатов. Фотография на память

Маргарет Рисмондо. Бульвар Распай


Небосвод

Осенний пейзаж

«Брежнев. Советский космос» (1977)

Русский 20 век

Слава КПСС
Характерным и узнаваемым творческим методом Булатова является столкновение плакатного текста, выхваченного из контекста советской действительности, с фигуративной (чаще всего пейзажной, заимствованной из массовой печати) составляющей. В результате художнику удаётся предельно доступным образом проиллюстрировать абсурдность действительности, перенасыщенной символикой советской пропаганды.

Помимо работ соц-артовской тематики, ещё в своих ранних работах Булатов разработал теорию взаимодействия картины и пространства. В этих его произведениях заметно влияние Фалька . Сильный, своеобразный этап его творчества, неоцененный по достоинству в контексте истории искусства.
Работы Булатова постоянно выставляются на аукционные торги современного искусства. Так, на аукционе «Филипс» работа «Советский космос» ушла примерно за 1,6 млн долларов, еще два полотна на советскую тематику, в том числе «Революция — перестройка», были проданы по миллиону долларов за каждое, что сделало Булатова одним из самых дорогих современных русских художников.


Эрик Булатов "Liberte" 1992 -эта картина появилась на афише выставки "Контрапункт"
14 октября 2010 в Лувре была открыта выставка "Контрапункт: русское современное искусство". В экспозиции представлены работы более двадцати художников. Это Эрик Булатов, Эмилия и Илья Кабаковы, Виталий Комар и Александр Меламид, Валерий Кошляков, Алексей Каллима, Владимир Дубосарский и Александр Виноградов, Андрей Монастырский, Вадим Захаров, Юрий Лейдерман, Юрий Альберт, Авдей Тер-Оганьян, группы "Синие носы" и AES + F и другие. Накануне вернисажа с академиком Эриком Булатовым в его парижской мастерской встретился корреспондент "Известий" во Франции Юрий Коваленко.

известия: Никто из русских художников при жизни не выставлялся в Лувре. Да и западных мастеров, удостоившихся такой чести, раз-два и обчелся. Словом, попасть в Лувр - это круто!
эрик булатов: Действительно, Лувр кажется всем нам чем-то недостижимым. Но наша выставка пройдет как бы в подвалах - в средневековом Лувре, где раскопаны основания стен и башни дворца. Это место для экспозиции абсолютно непригодное. Там разве что можно сделать инсталляции или показать видео. По-настоящему выставку, которая бы говорила о современном состоянии нашего искусства - тем более в Год России во Франции, следовало устроить в другом месте. Например, в Национальном центре искусства и культуры имени Жоржа Помпиду.
и: Получается, ты в обиде?
булатов: Я не в обиде, но просто не хочу, чтобы была эйфория, неумеренные восторги: "Ах, Лувр, Лувр!" Но как бы там ни было, для нас, русских, Лувр - святое место, к которому мы приобщаемся. Пусть где-то в углу, в щели.
и: Означает ли проведение "Контрапункта" признание нашего современного искусства? Или это просто одно из событий в рамках перекрестного Года России и Франции?
булатов: Этот вопрос я сам себе задаю. Есть признаки и того, и другого. С одной стороны, на Западе давно существует убеждение, что русского искусства, не считая авангардистов 1920-х годов, просто нет. Все остальное - до и после - провинциально и вторично. Конечно, три-четыре наших художника были признаны, но их успех оставался личным и не переносился на русское искусство вообще. С другой стороны, идет - хотя и очень медленно - процесс утверждения русского искусства как единого целого.

и: В какой мере нынешняя экспозиция в Лувре отражает современное российское искусство?
булатов: Она в основном базируется на концептуализме - направлении, которое в Лувре будет представлено достаточно убедительно. Но это не все наше искусство. Получается не объективная картина, а какой-то фрагмент. Многие художники, которые мне представляются очень важными, на этой выставке отсутствуют. Думаю, например, Оскара Рабина надо было обязательно пригласить.
и: Публику ждут сюрпризы. В день вернисажа в Лувре художник Юрий Лейдерман организует свой перформанс: две женщины в русских национальных костюмах на глазах зрителей отшинкуют сотню кочанов капусты. Со своей стороны, его коллега Юрий Альберт проведет зрителей по Лувру с завязанными глазами...
булатов: Вот это и есть наш концептуализм.
и: На афише выставки воспроизведена твоя картина "Liberte" ("Свобода") - перекличка со знаменитой картиной Делакруа "Свобода на баррикадах".

булатов: В экспозиции две мои работы. Кроме этой, еще и картина "Черный вечер - белый снег".
и: "Liberte" - картина хрестоматийная во всех смыслах. Вместе с другой твоей работой - "Советский космос" - она даже вошла во французские учебники.
булатов: Я получил этот заказ в 1989 году, когда во Франции готовился большой праздник по случаю 200-летия революции. Собирались поднять в воздух дирижабль, который с одной стороны должен был расписать русский художник, а с другой - американский. И у меня возникла идея, связанная с нашей революционной ситуацией 1980-х. Тогда было много свободолюбивых иллюзий.
и: Как западный зритель сегодня воспринимает русское искусство?
булатов: Всегда с интересом. Я в этом убедился на выставке "Русский пейзаж" в Национальной галерее в Лондоне. Музей бесплатный, а выставка платная. И люди стояли, чтобы на нее попасть. Такое же внимание и к русским выставкам в Париже. Проблема возникает с критикой - ей не интересно.
и: И на чьей стороне правда?
булатов: Правда не может быть на стороне тех, кто пытается руководить искусством. Неверно также считать, что она на стороне зрителей. Массы, например, идут на Глазунова или Шилова. В любом случае нельзя не считаться со зрителями или хотя бы с теми, кто хочет понять живопись. Их надо воспитывать, с ними нужно работать. Не просто объявлять одного художника хорошим, а другого - плохим, но объяснять вещи, касающиеся принципиальных основ искусства.
и: Есть французское выражение "обучать глаз".
булатов: Не только глаз, но и голову. Глаз, как говорил мой учитель Владимир Андреевич Фаворский, можно обмануть. Сознание обмануть труднее.
и: Фаворский был не только художником, но и философом.
булатов: Он был философом искусства. Он был связан и с Флоренским, и с другими нашими религиозными философами. Я же не философ, а просто художник. Я лишь стараюсь понимать, зачем и почему делаю так, а не иначе.
и: Не слишком ли большую власть взяли в руки кураторы, которых здесь называют комиссарами? Художники в их руках, по твоим словам, вроде подсобного материала - красок и кистей?
булатов: У меня впечатление, что общая ситуация сейчас меняется. Может, потому что среди кураторов идет смена поколений.
и: Разве искусство не утратило во многом свои нравственные функции и не стало частью индустрии развлечений?
булатов: Объективно судить о сегодняшнем искусстве мы не можем, ибо судим именно по тому, что нам показывают. Я не знаю, насколько это соответствует тому, что происходит в искусстве. Более того, я надеюсь, что это совсем не так. А о том, какое искусство сегодня, мы узнаем, может быть, лет через пятьдесят.

и: Грядущую победу на Западе массовой мещанской культуры предсказывал еще Герцен. Теперь она, похоже, окончательно одержала верх и в России.
булатов: Она не может победить окончательно. Мы, конечно, живем не в эпоху Ренессанса, однако искусство не может погибнуть. Если это произойдет, человеческое существование станет бессмысленным. Искусство задает вопрос, который никто больше не задает: "Зачем человек?".
и: Ты по-прежнему ходишь в Лувр учиться у классиков. Чему может учиться давно сформировавшийся известный художник?
булатов: На самом деле я очень мало умею. Многое у меня не получается.
и: Уничижение паче гордости?
булатов: Нет, это правда. У каждого художника есть тропка, по которой он идет. И если чуть оступаешься, сразу попадаешь в трясину, в которой не ориентируешься совсем. И каждый раз новую работу надо начинать с нуля, решать заново, ибо в искусстве все решения одноразовые.
и: Неужели ты по-прежнему терзаем творческими муками?
булатов: Наряду с Фаворским моим учителем был Фальк. Студентом я пришел показывать ему свои работы. И он меня спросил: "А что вы сами думаете по их поводу?" Тогда я был в полном отчаянии от собственной бездарности и сказал ему об этом. Фальк мне ответил: "Значит, вы сейчас в очень хорошем творческом состоянии. Я вам скажу такую вещь, которая не будет для вас утешением, но которая пригодится в дальнейшем. Это состояние будет продолжаться всю вашу жизнь. А если оно пройдет, значит, вы как художник кончились". Никогда я не чувствовал себя так беспомощно, как сейчас, в старости, когда начинаю новый натюрморт.

и: Рядом с работами каких великих художников в Третьяковке или в Лувре ты хотел бы выставить свою живопись?
булатов: В Лувре - страшно сказать - с "Коронацией Богоматери" Фра Анджелико и с тициановским "Сельским концертом". В Третьяковке - с Александром Ивановым или с Левитаном. Моя любимая левитановская картина - "Озеро", которая находится в Русском музее. Она должна была называться "Русь", но Левитан постеснялся дать это название, считая картину неудачной.
и: Почему в твоей московской мастерской висит репродукция "Джоконды"?
булатов: О "Джоконде" я написал статью. Для меня важно, как устроена эта картина, как показана проблема границы между искусством и жизнью. Именно над этим Леонардо работал больше, чем кто бы то ни было.
и: Но жизнь все-таки важнее искусства?
булатов: Я, право, не знаю. С одной стороны, это так, а с другой, жизнь - это материал для искусства.
и: Прожив около двух десятилетий во Франции, ты считаешь себя русским или европейским художником?
булатов: Я русский художник по воспитанию и образованию. Поэтому я художник европейский, как все художники, живущие во Франции, Германии или в Италии.
и: Среди твоих любимых мастеров - Левитан и Саврасов. Умом их не понять?
булатов: Художники воздействуют не на ум, а на чувства. Их искусство на тебя либо действует мгновенно, либо не действует вообще. Я убежден, что, если хорошо сформировать выставку русского пейзажа XIX века, она произведет громадное впечатление.
и: Однажды ты мне сказал, что Левитан и Малевич - это не антиподы.
булатов: Поскольку они оба укоренены в русской культуре, они, конечно, не антиподы. Они старались, чтобы зритель был участником того, что они делают. Левитану было очень важно, чтобы зритель - минуя живопись - сразу попал в его пейзаж, в березовую рощу.
и: Может ли сегодня появиться новый пейзажист уровня Левитана?
булатов: Есть такой пейзажист. Это Олег Васильев (друг и соратник Булатова, с которым они вместе многие годы занимались книжной графикой. - "Известия"). Он замечен, но пока еще недооценен.
и: Бразилец Жил Висенте написал десяток полотен, на которых запечатлел воображаемые убийства Джорджа Буша, бразильского президента Лулы да Силвы, нынешнего папы Бенедикта XVI. Все ли дозволено художникам? Допустима ли в искусстве какая-то цензура?
булатов: Внешняя цензура, безусловно, для искусства смертельна. Должна быть цензура внутренняя. Что это такое? Лучше всего сказал Кант: "Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас". И этот закон все мы обязаны соблюдать.

Эрик Булатов. Свобода есть свобода, 1997-98
В ГЦСИ сейчас открывается ваша совместная с Владимиром Логутовым выставка. Логутов - художник совсем молодой, из поколения 30-летних. Вы чувствуете в этом художественном поколении преемственность?
Я чувствую именно в этом поколении, поколении 30-летних интерес ко мне. Вот поколение 90-х годов, «Медгерменевты», Анатолий Осмоловский, было целиком кабаковской направленности - я им был не нужен и, соответственно, они мне тоже. Интерес молодого поколения я почувствовал, когда читал публичные лекции.

А у вас не бывает такого, что вы видите работу молодого художники - российского или зарубежного - и чувствуете в ней свою традицию?
Знаете, что-то подобное бывало. Хотя и очень редко. Но я не могу сказать ничего определенного: я почти не запоминаю фамилии. Но мне всегда приятно, когда я вижу какую-то близость с художником, а уж молодой он или нет - это не важно.

Эрик Булатов. Свобода есть свобода II. 2000-200
Но ведь поколение молодых уходит от картины к новым формам - инсталляции, видеоарту, перформансу. Тот же Владимир Логутов снимает видеоарт. А вы упорно продолжаете делать именно картины.
Это сложный вопрос. Что такое картина? Этот вопрос не имеет определенного ответа. Я считаю, что очень много современных художников работает именно с картиной, просто не отдавая себе в этом отчета, считая, что они отказались от картины. Примеров очень много - Сай Твомбли, любой наш конструктивист 20-х годов, весь американский поп-арт, немецкие художники - Рихтер, Базелец, Кифер. Картина - это пространство на плоскости. Но плоскость - это всего лишь основа, от которой выстраивается пространство - либо по одну сторону этой плоскости, либо по другую. Вот и все. Это пространство может выстраиваться и из объемных предметов.

- То есть картина как метод искусства еще может развиваться?
Конечно, она эволюционирует и показывает свои новые возможности. В картине скрыт очень большой потенциал, и в этом ее сила. Меня вполне устраивает картина. Смотрите, что такое инсталляция? Если инсталляция представляет собой пространство, сквозь которое должен пройти зритель, то она, конечно, не имеет никакого отношения к картине, потому что картина в первую очередь требует от человека фиксированного положения по отношению к ней. Но если инсталляция имеет границу: с одной стороны стоит зритель, а с другой развертывается некий процесс; то чем это не картина? Как кабаковская инсталляция «Человек улетевший в космос из своей комнаты». Видеоарт по сути дела тоже картина. Но у меня выше головы своих проблем, мне их хватит до конца дней, так что лезть на эту территорию, делать инсталляции или видеоарт я не буду. Все мои проблемы вполне хорошо разрешаются и через картины.

В последнее время, мне кажется, из ваших картин уходит социальное начало, хотя раньше оно играло большую роль. Многие даже называли вас основоположником соц-арта.
Я никогда не был художником соц-арта. Конечно, мои картины, такие как «Горизонт», сыграли большую роль в формировании этого направления, это верно. Но у художников соц-арта есть принципиальные от меня отличия. Смысл совершенно другой. Мои картины - это противостояние идеологизированной реальности и реальности естественной. Две реальности противостоят друг другу, и наше сознание оказывается полностью перекрыто этим идеологическим пространством. В этом же дело. И этим конфликтом как раз никто, кроме меня, не занимался. Потом стали заниматься, когда Советский союз уже рухнул.

Мне кажется, что в современном российском, даже московском искусстве, социальное и формальное нередко разделено. Одни художники говорят только о социальном, другие о нем вообще забывают, выбирая «одиночество приема», как тот же Логутов.
Такого разрыва быть не должно. Ведь пространство искусства необходимо связывать с пространством нашего существования, которое, конечно, включает в себя и социальное пространство. Ведь чем должно заниматься искусство? Исследованием характера пространства, в котором мы находимся, исследованием нашего восприятия этого пространства. Искусство старается мир, в котором мы существует, который на самом деле не описан и не узнан, выразить. Ведь мир каждый раз новый, и мы должны найти ему имя и образ. Вот это дело искусства. Это связывает искусство с жизнью, и, мне кажется, в этом как раз и находится весь смысл искусства. Это мое убеждение. Социальное пространство играет в этом мире роль, но оно - лишь часть, и как я убежден, не самая главная.
- А на Западе, в Париже, например, интересуются современным русским искусством?
Да нет. Просто на Западе твердо знают, что его нет, поэтому интересоваться здесь нечем. Есть русская музыка, есть русская литература, может быть русский театр, но вот русского искусства не было и нет.

- Почему так происходит?
Было бы интересно узнать ответ на этот вопрос, но не мне на него отвечать. Это было и в 20-е годы, и в 30-е, продолжается и сейчас. Когда здесь, в Париже прогремело имя Шагала, то это восприняли как его личный успех. И так со всеми: русский художник может стать успешным на Западе, но этот успех никогда не перенесут на все русское искусство. Шагал имел огромный успех, а рядом умирали от голода Ларионов и Гончарова, потому что никому не было до них дела. Кстати, несколько современных русских художников здесь тоже умеют успех, и мне грех жаловаться.
В этом невнимании к русскому искусству есть высокомерие, но во многом виноваты мы сами, потому что те русские выставки, которые здесь проходят, - это что-то ужасное. Они ничего не могут доказать, кроме того, что русского искусства действительно нет. Это грустно. Мне казалось, что это дело моего поколения - ввести русское искусство в единое, общемировое пространство искусства. К сожалению, у нас этого не получилось: опять только отдельные имена. Надеюсь, что следующие поколения смогут это сделать. Все-таки процесс не стоит на месте.

- А как же русский авангард?
Знаете, в Париже русский авангард воспринимают как десант французского искусства в русское. Наш XIX век считается провинциальной ветвью немецкого искусства, а потом французский десант, который дал неожиданный результат. Потом десантников перестреляли, и все кончилось. Хотя это в высшей степени несправедливо. Я считаю, что и XIX век стоит отдельного внимания, - это точно не провинциальная ветвь, хотя немецкие влияния, безусловно, были.
Понимаете, важно, чтобы наши, российские, теоретики и искусствоведы начали наконец-то всерьез заниматься этими вопросами. Посмотрите, в нашем искусствознании русское искусство XIX века оказалось между двух полюсов: либо это черт знает что (как считают на Западе и следом некоторые из наших передовых деятелей, типа Кати Деготь), либо это что-то необычайное, прекраснейшее и величайшее из созданного когда-либо, лучше всех на свете. На самом деле, обе эти позиции - вредны. Не просто неправильны, но вредны. Нужно внимательно посмотреть, чем оно отличается от искусства других стран и школ, в чем его сущность, в чем его недостатки и достоинства. Просто клеймить или превозносить - путь в никуда.
Опять же, если говорить о русском искусстве, как таковом, то нужно понимать, в чем состоит связь различных эпох и жанров. Неужели русский XIX век и русский авангард - это две противоположные вещи, исключающие друг друга? Если и то, и другое - это русское искусство, значит, здесь есть какая-то общая основа, что-то единое. Но никто эти явления не анализирует. Почему мы тогда хотим, чтобы другие считали, что у нас есть искусство? Ведь мы сами толком ничего о нем сказать не можем.

Вы говорите, что может быть следующее поколение художников сможет выделить русское искусство на мировом поле. Но ведь сейчас происходит процесс глобализации, когда различия между искусством разных стран все больше стираются. Может, теперь это выделение русского искусства и не имеет смысла?
Я вам скажу, что глобализация - это просто миф, на самом деле ее нет. Конечно, и Кифер, и Базелиц - это совершенно немецкие художники, невозможно представить француза такого же, как Базелиц. Или Энди Уорхол. Разве он мог быть европейцем? Конечно нет. Другое дело, что есть яркие индивидуальности, а есть неяркие. И яркие свою национальную основу очень хорошо выражают. Потому что национальная основа - это тип сознания, это не прием и не характер изображения. Они могут быть любыми - от фигуративных до абстрактных. Тип сознания отменить нельзя. Его формирует вся национальная культура - и музыка, и литература, и философия.
Русское искусство в этом смысле ничем не отличается от других: тип сознания остается, он наименее гибок. Он диктует свои особенности для национального восприятия искусства. И русское искусство, в этом смысле, определенным образом, конкретно отличается от французского. Наш зритель хочет от искусства не того, что хочет француз.

- И чего же хочет наш зритель?
Смотрите, французское искусство принципиально герметично. Оно не нуждается в зрителе, потому что утверждает собственную значимость, и она не зависит от того, как к нему отнесется зритель. Это очень важный момент. Это не плохо и не хорошо, просто очень характерно для французского сознания. «Вам не нравится? Ну ладно, уходите! Искусство от этого ничего не потеряет, а вы - потеряете». А наше искусство требует зрителя, оно без зрителя не может существовать. Ни одно искусство не нуждается в зрителе в такой степени, как русское. Это касается любой эпохи - и XIX века, и Малевича, и Татлина, и наших концептуалистов, кого хотите. Это лежит в основе нашего сознания.

Диагональ. Разрез
Может быть, именно поэтому наше искусство не воспринимают на Западе? Ведь если искусство нуждается в зрителе, значит, оно неполноценно.
Так и пытаются это трактовать, как вы сейчас. Но это не имеет никакого отношения к полноценности самого искусства. Просто тип сознания.
Материал подготовила Елена Ищенко.